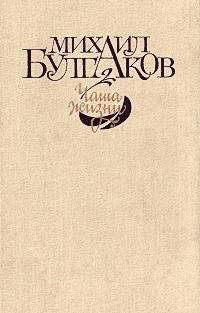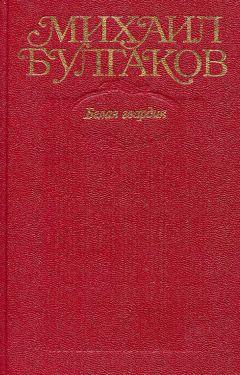———
Воображаю, что она будет нести в Лебедяни, и не могу вообразить, что уже несет в письмах!
———
Ку! Нежно целую тебя за приглашение и заботы. Единственное радостное мечтание у меня — это повидать тебя, и для этого я все постараюсь сделать. Но удастся ли это сделать, не ручаюсь. Дело в том, Ку, что я стал плохо себя чувствовать и, если будет так, как, например, сегодня и вчера, то вряд ли состоится мой выезд. Я не хотел тебе об этом писать, но нельзя не писать. Но я надеюсь, что все-таки мне станет лучше, тогда попробую.
О том, чтобы Женя меня сопровождал, даже не толкуй. Это меня только утомит еще больше, а ты, очевидно, не представляешь себе, что тебе принесет ослепительное сочетание — Сережка, Санька и Женька, который, несомненно, застрянет в Лебедяни. Нет, уж ты себе отдых не срывай.
Остальное придумано мудро: обедать вместе с компанией — нет! нет! A с S. — даже речи быть не может. Пусть Азазелло с S. обедает!
———
Ах, чертова колонка! Но, конечно, и разговору не пойдет о том, чтобы я вызывал Горликова или вообще возился бы с какими-нибудь житейскими делами. Не могу ни с кем разговаривать.
———
Эх, Кука, тебе издалека не видно, что с твоим мужем сделал после страшной литературной жизни последний законченный роман.
Целую крепко!
Твой М. [21]
22.VI.38
Дорогая Люси!
Твои письма и открытки получены.
———
Купик дорогой! Первым долгом плюнь ты на эту колонку! Мне Настасья ничуть не поможет, если на мою голову приведет Горликова! Привести я его и сам могу, а разговаривать с ним не могу (колонку надо ставить новую, по-видимому).
———
Вообще, не думай, друг мой, что письмами издалека можно что-нибудь наладить. Ничего из этого не выйдет, поэтому не ломай головы над пустяками. Занимайся Жемчужниковым! [22]
———
О нездоровьи своем я написал лишь потому, чтобы объяснить тебе, что я, может быть, не в состоянии буду выехать в Лебедянь.
Но ради всего святого, не придумывай ты мне провожатых! Пощади! То был Евгений! Теперь — Лолли!! Ничего они мне не помогут, а только помешают этой поездке!
Сегодня вечером меня будет смотреть Марк Леопольдович. Тогда все станет пояснее.
———
Стенограмма:
S. (тревожно). Ну! Ну! Ну! Что ты нудишься?
Я. Ничего... болит...
S. (грозно). Ну! Ну! Ну! Ты не вздумай Люсе об этом написать!
Я. А почему?.. Не вздумай?
S. Ну, да! Ты напишешь, Люся моментально прилетит в Москву, а мы тогда что будем делать в Лебедяни! Нет, уж ты, пожалуйста, потерпи!
———
У меня сделалась какая-то постоянная боль в груди внизу. Может быть, это несерьезное что-нибудь.
———
Ты недоумеваешь, когда S. говорит правду? Могу тебе помочь в этом вопросе: она никогда не говорит правды.
В частном данном случае вранье заключается в письмах. Причем это вранье вроде рассказа Бегемота о съеденном тигре, то есть вранье от первого до последнего слова.
Причина: зная твое отношение к роману, она отнюдь не намерена испортить себе вдрызг отдых под яблоней в саду. Я же ей безопасен, поэтому горькая истина сама собою встанет в Москве.
Но зато уж и истина!!
К сожалению, лишен возможности привести такие перлы, из которых каждый стоит денег (и, боюсь, очень больших денег!).
———
Но довольно об этом! Один лишь дам тебе дружеский совет: если тебя интересует произведение, о котором идет речь (я уже на него смотрю с тихой грустью), сведи разговоры о нем к нулю. Бог с ними! Пусть эти разговоры S. заменит семейно-фальшивым хохотом, восторгами по поводу природы и всякой театральной чушью собачьей. Серьезно советую.
———
Вообще, я тут насмотрелся и наслушался.
———
Ку! Какая там авторская корректура в Лебедяни! Да и «Дон-Кихот» навряд ли. О машинке я и подумать не могу!
Если мне удастся приехать, то на короткий срок. Причем не только писать что-нибудь, но даже читать я ничего не способен. Мне нужен абсолютный покой (твое выражение, и оно мне понравилось). Да, вот именно абсолютный! Никакого «Дон-Кихота» я видеть сейчас не могу. [...] [23]
Целую прекрасную, очаровательную Елену!
Твой М.
P. S. Вот роман! Сейчас стал рвать ненужную бумагу и, глядь, разорвал твое письмо!! Нежно склею. Целую. [24]
Опубликовано: Октябрь. 1987. № 6. Печатается по текстам машинописных копий и черновиков-автографов, хранящихся в архиве писателя (ОР ГБЛ, ф. 562, к. 19, ед. хр. 20, 30, 33).
О письме от 28 марта 1930 г. и о событиях, за ним последовавших, есть два свидетельства, во многом противоречащие друг другу. Л. Е. Белозерская в своих воспоминаниях, написанных в конце 60-х годов, утверждает, что «подлинное письмо, во-первых, было коротким. Во-вторых, — за границу он не просился. В-третьих, — в письме не было никаких выспренных выражений, никаких философских обобщений. Основная мысль булгаковского письма была очень проста: «Дайте писателю возможность писать. Объявив ему гражданскую смерть, вы толкаете его на самую крайнюю меру».
Вспомним хронику событий:
в 1925 году кончил самоубийством поэт Сергей Есенин;
в 1926 году — писатель Андрей Соболь;
в апреле 1930 года, когда обращение Булгакова, посланное в конце марта, было уже в руках Сталина, застрелился Владимир Маяковский. Ведь нехорошо бы получилось бы, если бы в том же году наложил на себя руки Михаил Булгаков? (...) Однажды, совершенно неожиданно, раздался телефонный звонок. Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха. К телефону подошла я и позвала Михаила Афанасьевича, а сама занялась домашними делами. Михаил Афанасьевич взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул «Любаша!», что я опрометью бросилась к телефону (у нас были отводные от аппарата наушники).
На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом и себя называл в третьем лице. «Сталин получил, Сталин прочел...» (...) Он предложил Булгакову:
— Может быть, вы хотите уехать за границу?
(Незадолго перед этим по просьбе Горького был выпущен за границу писатель Евгений Замятин с женой.) Но Михаил Афанасьевич предпочел остаться в Союзе».
Е. С. Булгакова в 1956 г. занесла в дневник иную версию событий: «...Он написал письмо правительству. Сколько помню, разносили мы их (печатала ему эти письма я, несмотря на жестокое противодействие Шиловского) по семи адресам. Кажется, адресатами были: Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Ягода, Бубнов (нарком тогда просвещения) и Ф. Кон. Письмо в окончательной форме было написано 28, а разносили мы его 31 и 1 апреля». Прошло более двух недель, и вот «18 апреля, часов в 6—7 вечера, он прибежал, взволнованный, в нашу квартиру (с Шиловским) на Бол. Ржевском и рассказал следующее. Он лег после обеда, как всегда, спать, но тут же раздался телефонный звонок и Люба его подозвала, сказав, что из ЦК спрашивают. Михаил Афанасьевич не поверил, решил, что это розыгрыш (тогда это проделывалось), и, взъерошенный, раздраженный, взялся за трубку и услышал:
— Михаил Афанасьевич Булгаков?
— Да, да.
— Сейчас с Вами товарищ Сталин будет говорить.
— Что? Сталин? Сталин?
И тут же услышал голос с явно грузинским акцентом:
— Да, с Вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков (или Михаил Афанасьевич — не помню точно).
— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.
— Мы Ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь... А может быть, правда — Вы проситесь за границу? Что, мы Вам очень надоели?
(Михаил Афанасьевич сказал, что он настолько не ожидал подобного вопроса (да он и звонка вообще не ожидал) — что растерялся и не сразу ответил):
— Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.
— Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?
— Да, я хотел. Но я говорил об этом, и мне отказали.
— А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с Вами.
— Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с Вами поговорить.
— Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю Вам всего хорошего». (ОР ГБЛ, ф. 562, к. 29, ед. хр. 12). Позднее, в интервью, данном в 1967 г. радиостанции «Родина», Е. С. Булгакова несколько иначе изложила ход разговора Сталин — Булгаков: «... Сталин сказал: «Мы получили с товарищами Ваше письмо, и вы будете иметь по нему благоприятный результат. — Потом, помолчав, секунду, добавил: — Что, может быть, Вас правда отпустить за границу, мы Вам очень надоели?»