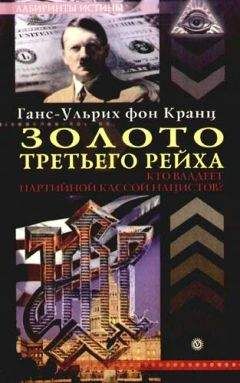Свирепость, с которой охранники обращались с заключенными, объясняется и весьма специфическим менталитетом нацистских полувоенных образований образца 1933 года, объединившим в себе эйфорию победы и вседозволенности с параноидальными идеями – смесь, в высшей степени взрывоопасную. Охранники праздновали победу нацизма. Опьяненные внезапно свалившейся на них властью, они были отнюдь не великодушными победителями: украсив лагеря захваченными знаменами левых партий, они впечатывали свое превосходство каблуками сапог в тела поверженных противников[200]. «Подумайте, а что они сделали бы с вами», – вдалбливало начальство лагеря Кольдиц в головы штурмовиков и эсэсовцев, натравливая их на заключенных весной 1933 года[201]. Нередко ненависть к заключенным была не отвлеченной, а вполне персонифицированной. По причине локального характера раннего нацистского террора тюремщик и заключаемый в тюрьму порой неплохо знали друг друга. Они выросли на тех же улицах и делили долгую историю вражды и мести. Теперь настало время окончательно свести счеты. Как писал в 1934 году один бывший заключенный Дахау, худшее, что может случиться с заключенным, – это быть узнанным охранником из твоего же родного города[202].
Но за безудержным хвастовством охранников скрывалась тревога. Нацистская пропаганда столь долго мусолила тему коммунистической угрозы, что ее быстрое и сокрушительное поражение казалось слишком уж легким. Страх перед неизбежным контрударом преследовал очень многих нацистов весной и летом 1933 года. Впрочем, и некоторые из заключенных-коммунистов не сомневались, что восстание рабочих не за горами[203]. Нацистские чиновники опасались, что их первые лагеря подвергнутся атаке вооруженных рабочих бригад, как тюрьмы во время революции в Германии 1918–1919 годов. Охрану призывали хранить бдительность перед лицом возможных угроз извне[204].
Постоянная боязнь призрака коммунизма подталкивала охранников к агрессии, в особенности в ходе так называемых допросов. Во многих первых лагерях существовали специальные камеры пыток, где властвовали штурмовики и эсэсовцы, где охранники вытягивали из заключенных имена, адреса явочных квартир и тайных складов оружия. В Ораниенбурге, например, изуверы штурмовики в камере номер 16 избивали заключенных до тех пор, пока тела не превращались в сплошное кровавое месиво[205]. Смертельные случаи среди заключенных пока что были относительной редкостью в первых лагерях. Вопреки мнению о том, что уже первые нацистские лагеря были оплотом геноцида, высказываемому отдельными исследователями, в частности Ханной Арендт, подавляющее большинство заключенных выживало[206]. Но многие сотни их погибли в 1933 году от рук палачей-охранников или же покончили жизнь самоубийством. Самыми уязвимыми из всех были евреи и известные политические заключенные[207].
«Выбор объектов издевательств»: «важные шишки» и евреи
6 апреля 1933 года от Силезского вокзала Берлина отошел специальный поезд до Зонненбурга в Восточной Пруссии, где штурмовики только что обустроили очередной лагерь на месте заброшенной исправительной колонии – за два года до описываемых событий там разразилась эпидемия дизентерии, заключенные были распределены по другим тюрьмам, а зонненбургская колония закрыта. В этом поезде находилось свыше 50 человек политических заключенных («важные шишки»), включая Эриха Мюзама, Карла фон Осецкого и Ганса Литтена. После их ареста в Берлине ранним утром 28 февраля 1933 года эти трое несколько недель провели в тюрьмах, описывая тамошние условия как «отнюдь не курортные», но «переносимые»[208]. Однако никто из них не мог предполагать, что еще предстоит.
В пути следования в Зонненбург над заключенными издевались и избивали их, а по прибытии на место начался настоящий ад. Особую ненависть охранников из штурмовых батальонов вызывали именно эти трое – Мюзам, Осецки и Литтен. Они были не только интеллектуалами левого толка – этих штурмовики и эсэсовцы ненавидели больше других, а символом этого типа людей служил для них носивший очки Мюзам, – но и были людьми известными: одна местная газета даже объявила об их прибытии. Анархиста Эриха Мюзама нацисты огульно обвинили виновным в гибели заложников в Мюнхене во время восстания 1919 года (как и Ганса Баймлера). Публицист Осецки ранее неоднократно выступал за расформирование берлинского батальона «Штурм 33» (прозванного «батальоном убийц»), в котором служили многие нынешние лагерные охранники, а адвокату Литтену приходилось встречаться с некоторыми штурмовиками из упомянутого батальона в суде. Теперь роли поменялись, и под конец ужасающего дня, когда Литтена едва не задушили, все трое провели первую ужасающую ночь в одной из камер Зонненбурга[209].
Пытки продолжались в течение следующих дней. Сначала двоим физически слабым, пожилым людям, Осецкому и Мюзаму, велели вырыть могилу на тюремном дворе. Потом они должны были встать на краю могилы, как будто для расстрела, но расстрела не последовало, а штурмовики, покатываясь со смеху, опустили винтовки. После этого их заставили выполнять унизительные и тяжелые физические упражнения, бегать по кругу и терпеть другие издевательства. Карл фон Осецки, не выдержав, потерял сознание и был помещен в тюремный лазарет. Эрих Мюзам в забрызганной кровью одежде 12 апреля тоже был доставлен в лазарет с «серьезным сердечным приступом», как позже он отметил в дневнике. Ганс Литтен между тем подвергался «опасным для жизни» пыткам, как он тайно сообщил близким перед тем, как совершить попытку самоубийства, вскрыв вены[210]. Всего за несколько дней в Зонненбурге охранники из СА едва ли не довели всех троих заключенных до смерти.
Подобное происходило и в других первых лагерях, которыми управляли служащие нацистских военизированных формирований. И речь шла не о каких-нибудь экстремистах: досталось и представителям весьма умеренного крыла СДПГ. 8 августа 1933 года, например, берлинская полиция доставила в Ораниенбург нескольких известных политиков, среди них лидер парламентской фракции СДПГ Эрнст Хайльман, один из самых влиятельных политиков времен Веймарской республики, и Фридрих Эберт, депутат рейхстага от СДПГ, редактор газеты и сын покойного первого рейхспрезидента Веймарской республики, объект ненависти немецких правых. Охранникам из СА поручили организовать «церемонию приветствия» столь известных заключенных. По прибытии Хайльмана и Эберта заставили позировать для пропагандистских фото. Потом они стояли по стойке смирно на лагерном плацу, где один из командиров штурмовиков оскорблял их: «Вот, полюбуйтесь на этих проходимцев! Этих жуликов! Подонки! Псы вонючие!» Вопя во весь голос, он обозвал Хайльмана «красной свиньей», Эберта – «кровожадным интриганом». Этим все не кончилось. Охранники вынудили своих жертв раздеться перед всеми догола, потом переодеться в лагерное тряпье, а после этого им обрили головы. Позже Эберт и Хайльман наверняка тоже прошли через печально известную «камеру № 16». В ближайшие недели издевательства продолжились. Как и другие «важные шишки», Хайльман и Эберт должны были выполнять особенно тяжелую, бессмысленную и грязную работу. И каждый раз, когда нацистские сановники являлись с визитом в Ораниенбург, этих двоих заключенных представляли им как диких зверей в зоопарке[211].
Бешеная ненависть охранников к известным политическим заключенным усугублялась и радикальным антисемитизмом. То, что у некоторых из жертв – в частности, у Хайльмана, Мюзама и Литтена – были еврейские корни, использовалось как подтверждение расхожих стереотипов о прямой связи евреев со всеми бедами в мире и проистекающей из этого смертельной угрозе «еврейского большевизма»[212]. Ядром нацистского мировоззрения являлся крайний антисемитизм, заклеймивший евреев как самых опасных врагов. Их обвиняли во всех невзгодах, которые, как утверждалось, преследовали современную Германию: от «ножа в спину» [в 1918 году] до возникновения коррумпированного веймарского режима. Убежденность охранников Зонненбурга в том, что все евреи – заклятые враги, была столь глубока, что они никак не желали поверить в то, что Карл фон Осецки не еврей (он на самом деле не был евреем), и подвергали «эту еврейскую свинью» еще большим нападкам[213].
Немецкие евреи составляли ничтожно малый процент от числа заключенных первых лагерей, возможно, не более 5 %[214]. Однако это свидетельствовало скорее о том, что не за горами время, когда евреев еще бросят в лагеря, причем вероятность оказаться там для них была куда выше, чем для обычного среднего немца рейха[215]. В целом в течение 1933 года в первых лагерях находилось до 10 тысяч немецких евреев[216]. Большинство их подвергли аресту и заключению не как евреев, а как левых активистов (хотя вопреки нацистской пропаганде евреи отнюдь не составляли большинство среди немецких коммунистов)[217]. Но некоторые слишком уж ретивые служаки арестовывали евреев исключительно по причине происхождения. Среди таких оказалось много адвокатов. Министерство внутренних дел Саксонии вынуждено было напомнить своим полицейским, что «сама по себе принадлежность к еврейской расе не является причиной для превентивного ареста»[218]. В Берлине между тем в мае 1933 года местные лидеры СА предупреждали своих сотрудников, что «не все брюнеты – евреи»[219]. Похищения и аресты были частью антисемитской волны, пронесшейся по Германии весной и летом 1933 года. Пока новоиспеченные фюреры разрабатывали дискриминационные меры, пытаясь выполнить свое обещание изгнать евреев из общественной жизни Германии, местные головорезы по собственной инициативе пошли в атаку на евреев – как на предпринимателей, так и на простых людей. Некоторые евреи попали в первые лагеря нередко по доносу соседей или деловых конкурентов – чаще всего их обвиняли в таких «преступлениях», как спекуляция или сексуальные отношения с так называемыми арийцами[220].