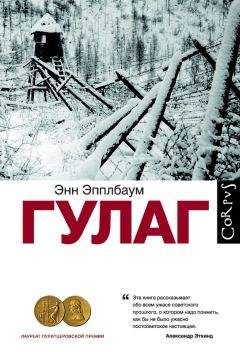Я, конечно, понимаю, что всех эта цифра не удовлетворит. Некоторые скажут, что не всякого арестованного или высланного можно считать «жертвой», поскольку среди них были и преступники, в том числе военные преступники. Но хотя действительно миллионы людей были осуждены по уголовным статьям, я не верю, что сколько-нибудь значительную часть от общего числа составляли преступники в каком-либо нормальном смысле слова. Женщина, собравшая на сжатом поле несколько колосков, — не преступница, мужчина, три раза опоздавший на работу, — не преступник (отец генерала Александра Лебедя получил лагерный срок именно за это). И, если уж на то пошло, военнопленный, которого через много лет после окончания войны все еще держат в лагере принудительного труда, — не военнопленный в сколько-нибудь законном смысле слова. По каким угодно подсчетам настоящие профессиональные преступники составляли в любом лагере ничтожное меньшинство, и поэтому я считаю возможным не корректировать приведенные цифры.
Кое-кого, однако, результат не удовлетворит по другим причинам. Есть вопрос, который, пока я писала эту книгу, мне, разумеется, задавали множество раз: из этих 28,7 миллионов — сколько погибло?
И опять дать ответ непросто. Ни по ГУЛАГу, ни по ссыльным вполне удовлетворительной статистики смертей на данный момент не существует.[1552] Может быть, в ближайшие годы появятся более надежные данные — во всяком случае, один бывший сотрудник МВД лично взял на себя труд аккуратно просмотреть все архивные материалы, лагерь за лагерем и год за годом, и постараться определить достоверные цифры. Руководствуясь, возможно, несколько иными мотивами, общество «Мемориал», уже выпустившее первый надежный справочник по системе исправительно-трудовых лагерей, тоже взялось за подсчет жертв репрессий.
Пока идет эта работа, приходится довольствоваться тем, что мы имеем, — годичными сведениями о смертности в ГУЛАГе, взятыми из архивных дел Отдела учета и распределения заключенных. В эти цифры, по-видимому, не входят случаи смерти в тюрьме или на этапе. Они даются на основании сводных документов НКВД, а не на основании данных по отдельным лагерям. К спецпереселенцам они не имеют отношения вообще. И все же я, хоть и неохотно, приведу их здесь:
Количество умерших заключенных (чел.)
В скобках — в % от общего кол-ва заключенных
1930
7 980 (4,2 %)
1942
352 560 (24,9 %)
1931
7 283 (2,9 %)
1943
267 826 (22,4 %)
1932
13 197 (4,81 %)
1944
114 481 (9,2 %)
1933
67 297 (15,3 %)
1945
81 917 (5,95 %)
1934
25 187 (4,28 %)
1946
30 715 (2,2 %)
1935
31 636 (2,75 %)
1947
66 830 (3,59 %)
1936
24 993 (2,11 %)
1948
50 659 (2,28 %)
1937
31 056 (2,42 %)
1949
29 350 (1,21 %)
1938
108 654 (5,35 %)
1950
24 511 (0,95 %)
1939
44 750 (3,1 %)
1951
22 466 (0,92 %)
1940
41 275 (2,72 %)
1952
20 643 (0,84 %)
1941
115 484 (6,1 %)
1953
9 628 (0,67 %)
Как и официальная статистика числа заключенных, эта таблица выявляет некоторые закономерности, согласующиеся с другими данными. В частности, резкий всплеск 1933 года — безусловно, результат голода, убившего от шести до семи миллионов «свободных» советских граждан. Меньший всплеск 1938-го, скорее всего, отражает массовые расстрелы, происходившие в том году в некоторых лагерях. О колоссальном увеличении смертности во время войны (в 1942-м умерла почти четверть заключенных) говорится и в воспоминаниях людей, бывших тогда в лагерях. Главная причина — голод. Продовольствия не хватало не только в лагерях, но и в стране в целом.
Но даже если и когда эти цифры будут уточнены, на вопрос: «Сколько погибло?» все равно нелегко будет ответить. Честно говоря, никакие цифры смертности, представленные лагерным или гулаговским начальством, нельзя считать вполне достоверными. «Культура» лагерных проверок и взысканий, помимо прочего, создавала заинтересованность лагерного начальства в сокрытии истинной смертности: не случайно как архивные материалы, так и мемуары показывают, что обычной практикой во многих лагерях было досрочно освобождать умирающих, тем самым улучшали статистику.[1553] Хотя ссыльных не переводили так часто с места на место и не отпускали перед смертью, система ссылки по самой природе своей (многие сосланные жили в глухих поселках далеко от региональных властей) исключала возможность ведения вполне надежной статистики смертей.
Что еще более важно, сам вопрос следовало бы поставить более точно. «Сколько погибло?» — вопрос, применительно к Советскому Союзу, очень расплывчатый, и тот, кто его задает, должен прежде всего понять, что именно он хочет знать. Если, к примеру, он просто-напросто хочет знать, сколько человек погибло в лагерях ГУЛАГа и поселках для ссыльных в сталинскую эпоху (с 1929-го по 1953 год), то имеется цифра, основанная на архивных данных, хотя даже тот историк, что ее приводит, указывает, что она неполная и не учитывает всех категорий заключенных за все годы. Привожу ее, опять-таки неохотно: 2 749 163.[1554]
Но даже если бы это была полная цифра, она все равно не отражала бы общего количества жертв сталинской судебной системы. Как я уже писала в предисловии, советские «органы», как правило, не использовали свои лагеря для убийств. Если им нужно было осуществить массовое убийство, они делали это в лесу. Безусловно, эти жертвы тоже нужно отнести на счет советского «правосудия», и их было много. Используя архивы, одна группа исследователей вывела такую цифру: 786 098 казненных по политическим мотивам с 1934 по 1953 год. Большинство историков считают ее более или менее достоверной, однако массовым казням всегда сопутствовали спешка и хаос, поэтому точно знать мы, скорее всего, не будем никогда. Но даже в это число (слишком точное, по-моему, чтобы быть надежным) не входят те, кто умер в эшелонах по дороге в лагерь, кто умер во время следствия, кого казнили формально не за «политическое» преступление, но тем не менее на сомнительных основаниях. В него не входят 20 000 с лишним польских офицеров, убитых в Катыни, и, самое главное, те, кто умер спустя считаные дни после освобождения. Если нам нужна цифра, включающая все эти категории погибших, то она будет больше, и, вероятно, намного, хотя оценки, опять-таки, сильно различаются между собой.
Но и эти цифры, как выясняется, не всегда отвечают на вопрос, который хотят задать люди. Нередко тот, кто спрашивал меня: «Сколько погибло?», имел в виду общее количество «ненужных» смертей в результате большевистского переворота. То есть — сколько человек погибло из-за «красного террора» и гражданской войны, из-за голода, возникшего в результате жестокой коллективизации, из-за массовых депортаций, из-за массовых казней, из-за убийств и тяжелых условий в лагерях 20-х годов, 60-х — 80-х годов, не говоря уже о лагерях сталинского периода. В этом случае цифра, конечно, будет гораздо выше, но о ней можно только строить догадки. Французские авторы «Черной книги коммунизма» говорят о двадцати миллионах погибших. Другие — о десяти-двенадцати миллионах.[1555]
Получить одну весомую цифру смертей было бы, конечно, заманчиво — это позволило бы, в частности, сопоставить Сталина с Гитлером или Мао. Но даже если бы мы такую цифру получили, я не уверена что она рассказала бы нам всю историю страданий. К примеру, никакие официальные цифры не могут отразить смертность среди оставшихся после ареста человека одиноких жен, детей и престарелых родителей, — такая статистика просто не велась. Во время войны старики умирали с голоду; если бы их арестованные сыновья не добывали уголь в Воркуте, они, возможно, остались бы живы. В холодных, плохо оборудованных детдомах дети гибли от эпидемий тифа и кори; если бы их матери не шили арестантскую одежду в Кен-гире, они, возможно, тоже остались бы живы.
Никакие цифры не способны отразить совокупное воздействие сталинских репрессий на жизнь и здоровье целых семей. Мужчину осудили и расстреляли как «врага народа»; его жену отправили в лагерь как «члена семьи»; его дети выросли в приютах и стали уголовниками; его мать умерла от горя; его двоюродные братья, дяди и тети перестали знаться друг с другом, боясь, что на них упадет тень. Семьи разваливались, дружбы прекращались, страх тяжело давил на тех, кого оставили на свободе, пусть даже они не умирали.
Статистика никогда не может дать полное представление о случившемся. Не могут дать его и архивные документы, на которых основана немалая часть этой книги. Все те, кто красноречиво и страстно писал о ГУЛАГе, понимали это — вот почему я хотела бы одному из них предоставить последнее слово в разговоре о статистике, архивах и папках.
В 1990 году писателю Льву Разгону позволили ознакомиться со следственными делами, содержащими протоколы допросов его самого, его первой жены Оксаны и еще нескольких членов его семьи. Он прочел дела и позднее написал о них очерк. Он подробно говорит о содержании папок, о скудости «улик», о смехотворных обвинениях, о трагической судьбе его тещи, о неясных мотивах, которыми руководствовался его тесть — чекист Глеб Бокий, о странном отсутствии раскаяния со стороны тех, кто растоптал все эти жизни. Но сильнее всего поразило меня описание его чувств после того, как он окончил чтение: «Я давно уже перестал листать дела, они лежат уже больше часа или двух около меня, застывшего в кресле со своими мыслями. И присмотрщик уже начинает нетерпеливо покашливать и смотреть на часы. Пора, пора. Мне здесь уже нечего делать. Я отдаю дела, и папки снова небрежно укладываются в матерчатую авоську. Я иду вниз, по пустым коридорам, прохожу мимо часовых, которые даже документ у меня не спрашивают, и выхожу на Лубянскую площадь.