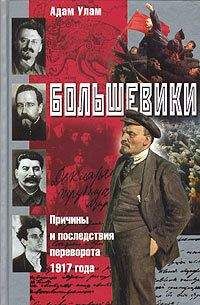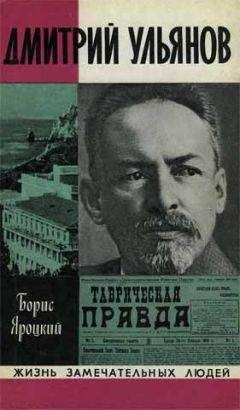Время от времени «Колокол» одобрительно отзывался о тенденциях в реформировании, а временами, напоминая об обещаниях, данных царем, подвергал их нападкам за излишнюю медлительность. Больше всего доставалось отжившей бюрократической системе и в особенности тем, кто продолжал цепляться за николаевский режим. Благодаря таланту политического обозревателя Герцен приобрел известность в России как в среде либералов, так и среди тех, кто придерживался умеренных взглядов. Но успех и благожелательное отношение были недолговечны. Герцен, сам того не подозревая, уже заразился западным либерализмом и превратился в либерального революционера. По его мнению, любая реформа должна была быть нацелена на будущее и привести к полной свободе и социализму. Он не мог понять новое радикальное направление, которое с большим сарказмом относилось ко всем реформам и требовало полностью уничтожить старую социально-политическую систему, не дожидаясь создания новой, социалистической России. Конфликт сулил будущий раскол в революционном движении: каждое следующее поколение смотрело на старших с жалостью и презрением, как на людей излишне мягких и не расположенных к революционной борьбе.
В политике, как, впрочем, и в личной жизни, Герцен был истинным порождением романтизма, приступы экзальтации у него периодически сменялись депрессией. Новость, что царь планирует освобождение русского народа от векового рабства, вызвала у него взрыв благодарности. Он назвал Александра II освободителем России и поместил на страницах «Колокола» несколько писем в адрес императора с советами, как справиться с противоборствующей бюрократией и реакционной частью дворянства. Временами эта односторонняя «переписка» принимала смешной оборот, как в случае, когда Герцен давал советы царской семье относительно воспитания наследника престола.[31]
Но стоило проявиться репрессивной политике нового режима, как неумеренные восторги Герцена сменялись на суровое осуждение. По сути, предрасположенность к царю (и Герцен был не одинок в своих чувствах) была связана с народничеством. Поверил ли крестьянин, что царь для него – отец родной, и не обвинил ли бюрократическое правительство в том, что оно обмануло царя, воздвигнув барьер между царем и его народом? Даже террористы, впоследствии убившие императора, стали жертвами тех же чувств, той же веры во всемогущество одной личности: они покарали несправедливого отца, который дал себя обмануть и отказал народу в свободе. Русским марксистам была абсолютно чужда атмосфера столь сокровенных революционных чувств в отношении царя. Для Ленина император был «дураком Романовым» и личностью, не обладающей никаким влиянием.
В начале 60-х прежнее влияние «Колокола» в России резко пошло на убыль. Процесс освобождения крестьянства не оправдал надежд Герцена. Царизм в очередной раз поверг его в ужас кровавым подавлением восстания в Польше в 1863 году. Герцен был в числе сравнительно небольшого числа русских интеллигентов, искренне вставших на сторону поляков. Несмотря на этническую связь (а может, благодаря ей) и всю историю двух этих народов, отношения между поляками и русскими складывались не лучшим образом. В отношении поляков русское общественное мнение придерживалось стереотипов, не слишком отличающихся от тех, которыми иногда награждали евреев. Радикалы видели в польских лидерах аристократов и землевладельцев, которые эксплуатировали своих (а нередко русских) крестьян. Консерваторы считали поляков нацией революционеров, похвалявшейся своей исключительной культурой и предавшей славянскую расу. Герцен, уверенно вставший на защиту польской независимости в тот момент, когда поляки убивали русских солдат, разбудил в России шовинистические чувства.
Герцен катастрофически быстро терял влияние и среди радикалов, готовых приветствовать любое выступление против царизма. Герцен явно отставал от «людей 60-х годов», или «нигилистов», как их иногда называют. Он был продуктом романтизма, а они вообразили себя представителями «научного» коммунизма. На их взгляд, социализм Герцена был излишне гуманным. Во многих случаях «нигилисты» были людьми низкого происхождения; их самолюбие уязвляли аристократические манеры и изысканный язык Герцена. Они прикрывали свою социальную и интеллектуальную неполноценность, как это зачастую происходит в подобных случаях, сарказмом в адрес «людей 40-х годов» с их полными благих намерений, но такими устаревшими и бессмысленными либеральными идеями (в радикальной среде слово «либерал» стало звучать как оскорбление). Новые люди, вроде Чернышевского, вызывали у Герцена скорее эмоциональное, нежели политическое неприятие. Он чувствовал, как, вероятно, почувствовал бы в большевиках, что занятие революцией, скорее всего, является для них не возможностью добиться свободы, а просто самоцелью. За их ярко выраженным материализмом и погруженностью в науку Герцену виделась враждебность к традиционной культуре, ко всему, что не могло стать «полезным», то есть не соответствующему их политическим представлениям и амбициям. В ужасе от новых радикалов Герцен произнес фразу, которая постоянно ставилась ему в вину: молодежь, писал Герцен, сохранила в своей ментальности характерные особенности, присущие «комнате для слуг, духовной семинарии и казарме». Это был прямой намек на их плебейское происхождение, обвинение в грубости и зависти к старшему, более «благородному» поколению. В другом случае Герцен воспользовался приемом, который впоследствии использовался во всех революционных спорах, а сегодня, тщательно отлаженный, прослеживается в отношениях между русскими и китайскими коммунистами, которые, отказавшись от собственной политики, ставшей «крайне» правой, служат интересам реакции. В статье под заголовком «Very Dangerous» (есть какая-то неестественность в том, что название дано на английском языке) Герцен объявил, что нападки на него служат интересам наиболее реакционной части царской бюрократии и за это правительство могло бы наградить молодых радикалов.
Герцен с горечью понял, что его противники все сильнее завоевывают умы и сердца молодого поколения России. Кроме того, к нему пришло осознание безнадежности его собственной политической позиции. Герцен не мог позволить себе долго оставаться среди людей с умеренными взглядами и отрицать любые формы революционной борьбы. В нем уже проявилась психологическая черта, ставшая проклятием будущих либералов. Как повезло Ленину, который понял и использовал в своих интересах слабоволие либералов.
В силу характера Герцен должен был вернуться к революционной борьбе. Он все еще возлагал надежды на императора, но, как и прежде, горячо реагировал на любые проявления тирании и жесткости со стороны властей. Студентам, возглавившим теперь революционные беспорядки в России, Герцен писал: «Слава вам! Вы начинаете новую эру, вы осознали, что время слухов, скрытых намеков (тайного чтения), запрещенных книг прошло». Куда же им следовало идти, если власти закрыли университеты? «К народу, к народу… показать ему… что среди вас есть те, кто готов сражаться за русский народ». На арест Чернышевского, своего основного антагониста среди радикалов, человека, который олицетворял для него духовную узость (менталитет семинарии), Герцен отреагировал статьей, в которой отдавал дань уважения Чернышевскому и осыпал проклятиями царизм.
Последние годы жизни Герцена (он умер в 1870 году) были омрачены личной драмой. Kapp в «Romantic Exiles» дает яркую картину бурной личной жизни революционера и его окружения; жизни, отравленной неверностью, а затем трагической смертью жены; мучительной связью с женой самого близкого друга, Огарева, связью, которая не смогла внести раздор в давнюю дружбу и не отразилась на политическом сотрудничестве, но, безусловно, нанесла моральный и психологический удар Огареву.[32]
Переезд Герцена на континент был связан не только со снижением популярности «Колокола», но и с личными соображениями. К тому времени в Женеве сосредоточилась новая русская эмиграция, а какой же русский мог долго оставаться в Лондоне с его холодной, викторианской атмосферой, отвратительной английской кухней, вдали от очаровательных французских кафе, столь необходимых революционерам-изгнанникам? Герцену Лондон казался «муравейником»; ничто не связывало его с интеллектуальной и политической жизнью британской столицы. Круг его знакомых практически ограничивался эмигрантами.
Герцена не приводил в восторг не только новый русский радикализм, но и многие тенденции европейского социализма. Ему были чужды «научный» социализм и то особое внимание, которое придавалось рабочему. «Рабочий любой страны превратится в буржуа». Какое дальновидное, даже если и чрезмерно оптимистичное, суждение! Русские марксисты так до конца и не простили Герцену неприятие им основной роли рабочего класса. Как можно сравнивать героический рабочий класс с продажной, филистерской буржуазией? Но против Маркса Герцен не мог устоять. Лондонский политический деятель относился к так называемому «желчному» типу революционера. Интриган, не отказывавший себе в удовольствии во время полемики оскорбить оппонента и вылить на него ушаты грязи. Герцен не разделял бакунинского патологического антисемитизма и германофобии (хотя и не любил немцев). Но Маркс для него являлся олицетворением духа немецкой буржуазии: педантичный, абсолютно неромантичный, лишенный жалости и сострадания и всего того, что он не считал необходимым для настоящего борца за народное право. За одно то, что доктор Маркс выступал или просто присутствовал на каком-либо политическом сборище, Герцен был готов простить ему все.