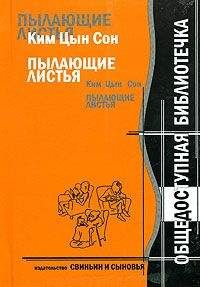В полночь вместе со старшим вожатым проверяем посты, смотрим, как меняется наш бравый караул. Дежурят старшие, Володин первый отряд. В ту ночь я услыхала от ребят впервые:
— Спокойной ночи, Володя, спокойной ночи, Нина. Идите спать, все будет в порядке, если понадобится — позовём…
— Спокойной ночи, ребята!
— Не без покровительственных ноток отпустили нас, заметила? — говорит Володя, когда мы отходим от ребят. — Взрослеют.
Это было время полной отдачи сил. Мы, вожатые, вставали в шесть утра — за два часа до подъема надо было успеть привести в порядок свою комнату и скудный, тем более нуждающийся в порядке гардероб. И надо было подумать о том, чтобы наступивший день был добрым и интересным для ребят. Потому что до конца этого дня, до двенадцати часов вечера, думать будет уже некогда.
Начало и конец июля 1941 года были для нас непохожими — если в начале мы поддавались тревоге и тоске, то в конце у нас складывался коллектив и создалась первоначальная модель нашей жизни, девизом которой молчаливо и единогласно было принято мужество.
Складывался коллектив… Сам собой? Нет, так не бывает. Много лет спустя после войны я спросила Гурия Григорьевича Ястребова:
— Что было для вас образцом устройства нашего безупречно работавшего коллектива? Может быть, макаренковская коммуна?
— Нет, — ответил он. — У Макаренко были ведь беспризорники. У нас — лучшие в стране пионеры. Откровенно говоря, я и сам не очень-то хорошо представлял себе вначале механизм будущего военного Артека. Всегда помнил о трех китах: порядок, труд, интернациональная дружба.
Чувства товарищества и интернациональной дружбы нам хватило на долгий, проверенный четырьмя десятками лет, срок: с первых дней нашей встречи до сегодня. У нас бывают традиционные сборы, ради участия в которых наши бывшие дети, оставив своих внуков на попечение родителей, пересекают страну из конца в конец. Бывает, мы просто ездим в гости друг к другу. В один осенний день, когда Тося покинула солнечные края Одессы и приехала в Таллин навестить меня и, естественно, ребят, мы стали вспоминать, как мы воспитывали в ребятах чувство интернациональной дружбы: И было у нас обеих одинаковое впечатление о взаимоотношениях детей разных национальностей в Артеке: что детям от природы свойственно чувство интернационализма. В смене, которая началась 18–19 июня и длилась четыре военных года, были русские, евреи, эстонцы, литовцы, латыши, украинцы, белорусы, молдаване, одна немка из Киева и общий любимец всего коллектива казах Алеша Култыгаев. Вспоминая множество наших сложностей, мы перебирали разные бытовые, организационные, дорожные проблемы, ссоры между детьми и причины их — и не могли вспомнить ни одного конфликта, который произошел бы на национальной почве. Возможно, интернациональный тон задавали дети из РСФСР, Белоруссии и Украины — воспитанные в пионерском духе конца тридцатых годов, они были органически настолько далеки от национализма, что им просто не приходило в голову спрашивать — кто какой национальности, не говоря уже о том, чтобы какую-то одну национальность считать «хуже» другой. У этих ребят было прямо противоположное национализму отношение к своим новым друзьям из других республик: необычайная любознательность — а что представляет собой их культура, язык, об чаи? Если белорусы плясали свою знаменитую «лявониху», то на белорусском языке подпевали им все, слова зажигательных молдавских песен мы помним до сих пор и поём на своих встречах, и большинство русских, украинских и белорусских ребят запомнили несколько десятков обиходных эстонских слов.
Разумеется, общим для лагеря языком был русский, и эстонские ребята не были замкнуты в своем отдельном отряде, а в соответствии с возрастом распределены по всем отрядам. Но когда наступали праздники, а праздники государственные и школьные мы устраивали для ребят обязательно, стараясь почаще радовать их — традицией этик праздников были концерты, на которых каждый из ребят показывал свое национальное искусство. Мы поддерживали в них память о родных песнях и танцах, создавали возможность чтения на родном языке — в частности, для эстонских ребят через эвакуированный в Москву ЦК ЛКСМЭ, вьшисывались эстонские молодежные газеты. Каждый своеобразный, понравившийся концертный номер встречался взрывом коллективного одобрения и в дальнейшем исполнялся всеми. Все четыре военные года Артек жил одной семьей, с общими радостями и огорчениями, с общими интересами, с общим настроем доброжелательности друг к другу. Вожатым в общем процессе воспитательной работы ни разу не пришлось специально выделять проблему интернациональном дружбы — она была естественным состоянием и естественным способом общения детей друг с другом.
Вот так и получилось, что коллектив из трехсот детей под руководством двух взрослых — начальника лагеря и врача — и четырех молодых, комсомольского возраста, людей не только целым и невредимым выбирался из прифронтовых районов, но мог организовать жизнь и воспитательную работу так, что стал как бы маленькой моделью общества, объединенного общей идеей, общими интересами, общим трудом и стремлением к знаниям. Общаясь между собой на одном языке, этот интернациональный детский коллектив сумел сохранить свои национальные языки и народные обычаи, создать в своей среде то, что мы называем взаимопроникновением культур. И дружбу, начавшуюся в четыре суровых военных года, смог сохранить на всю жизнь, несмотря на расстояния и различие профессий. Вот повод для серьезных размышлений, для обстоятельных социологических исследований!
Зимний день в Сталинграде
Однажды осенью 1941 года в нескольких дневниках появилась запись в таком духе: «У эстонской группы сегодня печальный день — Нина ушла на фронт».
На фронт я ещё не ушла — мы с Тосей отправились на оборонные работы под Сталинградом. Линия фронта продвигалась на восток. С моими эстонскими детьми было все в порядке — они уже говорили по-русски, были здоровы, свободно чувствовали себя в артековском коллективе… Поработав месяц на противотанковых рвах, побывав под бомбежками, я решила — наступило время, когда мне можно оставить ребят… Добралась до Сталинграда, пошла в военкомат. А перед отъездом в Артек в Таллине я успела поменять паспорт, но — не успела прописать. Отсутствие прописки, что означало нарушение паспортного режима в условиях военного времени, доставило мне не так уж мало огорчений… Словом, на передовую я не попала. Некоторое время промыкалась во втором эшелоне одной из воинских частей Сталинградского фронта. От обиды на собственный паспорт, да еще оттого, что во втором эшелоне людей всегда томит бесцельность и безделье, я заболела и с высокой температурой попала в Сталинграде в больницу — да не в госпиталь, а в обычное инфекционное отделение. В тот же день выяснилось, что никакого инфекционного заболевания у меня нет, но карантинный срок было положено отбыть. Что тут говорить — воительницы из меня не получилось. Отделение наше было строгое, ходить по больнице не разрешалось, ночные бомбежки были пока еще пробные и короткие, наша палата к ним быстро привыкла, и в бомбоубежище мы не ходили, днем я читала да подолгу стояла у окна. И вот так стою однажды и вижу: в белых шапках и чёрных бушлатиках идут… мои дети! Я подумала, что это они меня каким-то чудом разыскали. Но нет, они пришли навестить заболевшую московскую пионерку Шуру Батыгину. Она оказалась в той же больнице на другом этаже. Ну, удивления и радости было с обеих сторон предостаточно. Но и неловко было мне перед ребятами: вместо фронтовых подвигов — инфекционная палата… Уехав с наступлением холодов из Нижне-Чирской благодати в Сталинград, ребята оказались в нелегких условиях не столь уж далекого от фронта города. Со мной ребята поступили решительно и оперативно. Пока я отбывала в больнице карантин, Ланда сразу же рассказала о моих неудачах вожатым и начальству, и я глазом моргнуть не успела, как оказалась снова на своем рабочем месте — вожатой родного третьего отряда.
Естественно, коллеги меня расспрашивали что да как, я мрачно отмалчивалась: не жаловаться же на паспорт. И было бы мне вовсе плохо, если бы не ребята. Чувство такта ли в них было; сочувствие ли, или просто детское желание удержать меня при себе — кто это теперь помнит? Несколько лет назад я попробовала расспросить Ланду, как все произошло с моим возвращением в Артек. Очень разговорчивая, просто по-матерински нежная со мной, Ланда вдруг отрезала коротко: «Так надо было, и все тут. Да я и сама не помню». Как всегда, Ланда была права, что проку теперь после драки кулаками махать?
Надо было предстать перед детьми без воинской славы, даже без воинского поражения — просто вернуться ни с чем. «Зажать в кулак!» — говорю себе. А что зажимать в кулак? Самолюбие? Нереализованное желание помочь стране в трудную минуту? Неудачливость? Сама не знаю что. Все вместе. Зажать в кулак и терпеть…