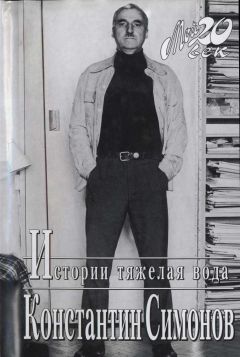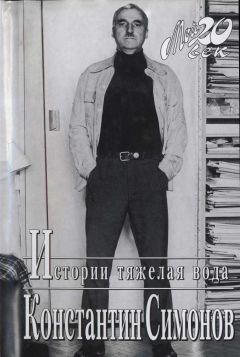Один взятый еще в мае старшина был страшно худой, заросший до глаз бородой, в которой появилась седина, с ввалившимися глазами, с перебинтованной грудью, с одной ногой в шине и, что меня особенно поразило, в обгорелой гимнастерке без одного рукава. Так он был взят на поле боя, раненный в грудь, ногу и руку, в обгоревшей гимнастерке, и в таком же виде его возвращали нам через пять месяцев.
Здесь же на площадке стоял наш маленький санитарный автобус. Оттуда раненым быстро притащили еду, шоколад, кажется, сгущенное молоко и еще что‑то, поили их и кормили. Минут через пятнадцать подошли и наши самолеты; они снизились один за другим, и наши с помощью японцев стали вытаскивать оттуда японских тяжелораненых. Было их, по — моему, человек семьдесят, все на носилках, все тяжелые; некоторые могли садиться на носилках, некоторые лежали пластом. Все были одеты в чистое белье и в чистенькое, новенькое, с иголочки, японское обмундирование. Рядом с каждым лежала на носилках новенькая японская шинель, каждый был накрыт до пояса новеньким японским одеялом, словом, видимо, все соответствовало инструкции — «сдать в полном порядочке».
Я так и слышу, как звучат эти слова: «сдать в полном порядочке». Сдали действительно в полном порядочке. Кстати сказать, это было нетрудно: в наши руки попало не то пятнадцать, не то двадцать тысяч полных комплектов зимнего обмундирования, завезенного японцами в предвидении зимней кампании.
Японцы лежали мрачно и тихо, чувствовалась их угнетенность. Полковник Харада, очень любезный и улыбчивый с нами, вдруг стал говорить каким‑то свистящим, как хлыст, голосом. Бывшие тут же два японских майора и два капитана — как выяснилось, военные врачи — распоряжались выгрузкой и главным образом погрузкой пленных на самолеты. Японские санитары действовали грубо, швыряли носилки об землю, но никто из раненых не застонал и не охнул. Наши вытаскивали их гораздо мягче, вежливей, и даже не вежливей, а просто — напросто сердечней.
Японцы вели себя со своими ранеными нарочито грубо. В этом чувствовалась не столько действительная грубость, сколько необходимость быть грубыми на глазах у начальства, необходимость показать презрение к этим пленным. Санитары старались вовсю. Доктора считали носилки и тоже разговаривали резкими и свистящими голосами. Ни один из них так и не ответил на те несколько вопросов, которые — стоя рядом, я слышал это — задали им пленные. Врачи и санитары, не стесняясь, перешагивали через носилки.
Потом, когда выгрузили всех пленных, санитары вдруг появились с пачками белой бумаги, пошли вдоль рядов и одному за другим, быстро и грубо, начали надевать каждому из раненых на головы колпаки, похожие на большие пакеты, в которые у нас в магазинах насыпают крупу. Эти большие пакеты из плотной, в несколько рядов склеенной бумаги напяливались пленным на головы.
Как‑то странно и тяжело было смотреть, как тем из раненых, кто сам не мог приподнять голову, грубо приподнимали ее и нахлобучивали на нее пакет, а следующий, тот, кто мог поднимать голову, уже сам приподнимался на локтях и вытягивал шею навстречу пакету.
Полковник Харада проходил мимо меня. Я задержал его и спросил: что они делают с пленными? Он быстро остановился и произвел на своем лице два необыкновенно быстрых движения: сначала он быстро улыбнулся. Это был жест по отношению ко мне — он отвечал на мой вопрос. Потом эта улыбка так же быстро исчезла, и нижняя губа полковника оттянулась в надменную гримасу. Кивнув на пленных и сделав очень короткий и очень презрительный жест в их сторону, он сказал:
— Это надевают на них для их пользы, чтобы им было не стыдно смотреть в лицо офицерам и солдатам императорской армии.
Наверно, надо было сказать ему, что после всего происшедшего на Халхин — Голе некоторым генералам и офицерам японской армии следовало бы надеть на голову такие мешки, чтобы им не было стыдно смотреть на своих возвращающихся из плена солдат, но, как часто в таких случаях бывает, эта мысль пришла мне в голову позднее, чем нужно. Харада уже отошел и отдавал какие‑то распоряжения.
Пленных японцев быстро и грубо запихивали, именно запихивали, в японские самолеты, наших погрузили в один из наших самолетов. Самолеты один за другим начали подниматься в воздух, а мы остались на быстро опустевшей посадочной площадке.
Если мы хотели застать хотя бы конец официальной церемонии на главном пункте передачи пленных, надо было немедленно ехать назад. Однако когда мы подошли к машинам, то выяснилось, что машина полковника Харады в третий раз испортилась, и его шофер, стоя спиной к нам, копался в моторе. Харада, ни слова не говоря, подошел к нему сзади и, держа свой офицерский меч за середину, легонько дотронулся ножнами до ноги шофера. Одновременно он слегка обернулся к нам и улыбнулся. Улыбка была для нас. Шофер повернулся. У него были такие испуганные глаза, что я понял: пока над ним стоит Харада, он может копаться в моторе два, три, двенадцать часов, но все равно с этими ошалевшими от страха глазами ничего не починит. Харада сказал что‑то по — японски, шофер тоже ответил по — японски. Харада улыбнулся нам и сказал:
— Боюсь, что не доедем.
Тогда мы предложили ему сесть в нашу машину вместе с нами. Он поколебался и сказал:
— Хорошо, спасибо.
Задержавшись около своего шофера, он начал что‑то говорить ему. В это время наш угрюмый майор и переводчик препирались, как быть теперь: выставлять через окно белый флаг или нет. Теперь перед нами уже не поедет японская машина, так что в нас наверняка будут стрелять.
— Да, но с нами ихний полковник едет, — сказал майор.
— Да, но его не сразу увидят. Увидят нашу машину в тылу японского расположения. Представьте себе, в нашем тылу — японская машина! Сперва обстреляют нас, а потом уже его заметят, — говорил переводчик.
— Что же, в нашей машине будет японский полковник, — говорил майор, — а мы белый флаг выставим, как будто мы сдались ему? Нет, так, без флага поедем!
Полковник Харада подошел к нам, и мы сели в нашу «эмку», майор снова впереди, а мы втроем сзади: с одного бока переводчик, посредине полковник, а с другого бока я. Харада был изрядно стиснут между нами. Меч, поставленный между ногами, мешал ему, и на кочках казалось, что он вот — вот выбьет себе мечом зубы. Кроме того, ему мешала лежавшая сзади на сиденье винтовка, а вид рассыпанных на полу гранат тоже, наверно, действовал не слишком утешительно.
Должно быть, сыграла свою роль и недавняя встреча с ретивым капитаном броневичка. Во всяком случае, когда мы стали разворачиваться и выезжать с посадочной площадки, Харада встревожился и стал говорить:
— Нет, не сюда, а сюда! Дорога сюда!
Он, очевидно, опасался, что его завезут в наше расположение. Майор повернулся и мрачно сказал:
— Я дорогу знаю. Где раз проехал, второй раз знаю. Я вас довезу, вы не беспокойтесь.
— Я не беспокоюсь, — сказал полковник и начал опять улыбаться и расспрашивать нас о каких‑то вещах, вовсе не относившихся ни к нашей поездке, ни к войне: о женщинах, о высшем образовании и о Москве, где он когда‑то был не то помощником военного атташе, не то кем‑то еще.
Теперь мы уже явно ехали по японской территории, но полковник, стиснутый нами с двух сторон и сидевший в нашей машине, видимо, чувствовал себя все‑таки неуютно. Мы с переводчиком тоже чувствовали себя не слишком хорошо и все время боялись, что кто‑нибудь из японских солдат, стоявших на постах на поворотах дороги, возьмет и выпалит в нас. Я очень удивлялся, как этого не случилось. Может быть, японцев гипнотизировала неукротимая уверенность нашего майора, что все будет в порядке и что его никто не посмеет тронуть, а может, их ошеломлял вид одинокой, без всякого сопровождения проезжавшей через их позиции русской машины, но никто из них так и не выстрелил. Винтовки поднимались, машина подъезжала ближе, в пяти шагах японцы видели стиснутого между нами японского полковника, делали ему на караул по — ефрейторски, и мы проезжали дальше.
Так в конце концов мы благополучно вернулись к месту переговоров.
К тому времени, когда мы вернулись, церемония опроса и подсчета была закончена, и мимо нас промаршировали пленные.
Вначале прошли наши, их было человек восемьдесят. Во главе их шел одетый в синий танкистский комбинезон худой, черный, бородатый человек с печальными глазами и рукой на перевязи. Это, как мне сказали, был майор — командир батальона нашей бронетанковой бригады. Его считали погибшим в одном из боев еще в июле. Но оказалось, что он в плену. Как старший по званию среди пленных, он вел колонну.
Наши пленные молча прошли мимо нас и скрылись за поворотом дороги, уходившей к нашим позициям. Потом прошли японцы. Замыкая их колонну, ехали две открытые машины, в которых сидели раненые главным образом в ноги.