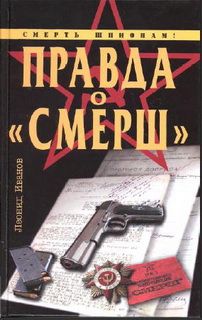На фронте азербайджанцев презрительно называли «ялдашами», хотя это слово по-азербайджански обозначает «товарищ».
8 мая 1942 года в наступление на нашем участке фронта перешли уже немецкие войска. Авиакорпус Рихтгоффена рано утром нанес мощный бомбовый удар на узком участке левого фланга нашего фронта. Был пасмурный дождливый день, казалось, все было смешано и уничтожено. В этот узкий участок немецкое командование пустило свои танки. Так как весь фронт по протяженности составлял всего 21 километр, то танки быстро вошли в тыл всего фронта, порвали линии связи, которые в большинстве своем были проводными и обеспечивались так называемыми КШР (кабельно-шестовыми ротами).
Командование не только полков, дивизий и армий, но и фронта в целом потеряло управление войсками. А нет управления — нет армии. Началось беспорядочное отступление и массовое бегство в направлении Керчи — к Керченскому проливу. Это была страшная и тяжелая картина.
У остатков пирса в Керчи, в районе Маяка. На этом пирсе в мае 1942 года мне довелось быть руководителем переправы раненых военнослужащих на кубанский берег
Наш 3-й батальон 13-й отдельной стрелковой бригады отходил последним, более или менее организованно. Никогда не забуду, как в районе Кенегеза (татарское название населенного пункта) мы увидели наши брошенные тяжелые гаубицы и много-много штабелей со снарядами. Личного состава не было. Боевые позиции были оставлены. И такая картина была всюду, по всему фронту.
По моему настоянию командир батальона капитан Перевертай дал команду занять оборону на одной из солок. Хорошо было видно, как шли на нас немецкие цепи. Шли спокойно. Кто-то поднимал что-то с земли, кто-то отшвыривал банку, кто-то оправлял амуницию, и тем не менее непрерывно стреляли, но пули были на излете и вреда не приносили. Слева и справа обходили сопку немецкие танки, обстреливая нас болванками (видимо, не было снарядов).
Болванки летели низко, с противным визгом. Создавалось впечатление, что вот-вот они ударят тебя по коленям. И тут среди личного состава началась паника.
Смотрю, побежал один солдат, потом поднялись и побежали сразу трое, потом стали подниматься и бежать еще более многочисленные группы.
Командир батальона Перевертай сидел на каком-то камне растерянный, безучастный, с отсутствующим взглядом. Губы у него пересохли, и он судорожно облизывал их языком. Я подскочил к нему, схватил за грудки:
— Ты что? Именем советской власти, расстреляю, если не возьмешь себя в руки!
Конечно, я не думал его расстреливать (хотя право такое имел), мне надо было вывести его из шокового состояния, из прострации. Задержал возле нас одного, второго, третьего из бегущих бойцов. Они залегли, стали отстреливаться. Перевертай встрепенулся, пришел в себя. Вскоре возле нас залегло уже несколько десятков человек. Бег прекратился. На наши позиции возвращались люди, бежавшие ранее (те, что остались в живых). Положение было спасено. До Керчи наш батальон отходил с боями, но на подходе к городу под непрерывными ударами он распался.
17—18 мая противник прижал нас к берегу Керченского пролива. Я оказался за Керчью, в районе Маяка. Велся беспрерывный обстрел кромки берега, на котором находились толпы людей. Отдельные снаряды выкашивали целые отделения. Многие стрелялись, другие открыто выбрасывали партбилеты, кто-то срывал с себя петлицы. Там и тут валялись останки — руки, головы, человеческие ноги.
На обстреливавшемся берегу кипела лихорадочная и беспорядочная работа. В ход шло все, что могло держаться на воде. Из досок и бочек сколачивались плоты, надувались и тут же пускались в плавание автомобильные камеры, несущие подчас целые отделения. Там и тут, держась за бревно или какой-нибудь ящик, плыли по воде люди. Другие пускались вплавь сами, прыгая в холодную воду пролива. Люди шли на огромный риск, чтобы попасть на кубанский берег.
Сильным течением из Азовского в Черное море многих пловцов уносило вдаль от берегов, где их ждала гибель. Этих несчастных людей были сотни и тысячи. День и ночь ужасающие вопли и крики стояли над проливом. Картина была жуткая.
Началась настоящая агония. В нашем распоряжении оставалась небольшая полоска берега — в 200–300 метров. При появлении немецких цепей я встал за большой валун и решил застрелиться, чтобы не попасть в плен. В этот момент на небольшой высотке, совсем рядом, неожиданно появился здоровенный моряк в бушлате, брюках-клеш, бескозырке. Потрясая автоматом, он громко закричал:
— Братцы! Славяне! Отгоним гадов-немцев! Вперед! За мной! У-р-р-ра!
Наверное, никто не обратил бы на него внимания, но тут, рядом, неизвестно откуда появился военный оркестр и заиграл «Интернационал». Все военнослужащие, здоровые и раненые, в едином порыве рванулись на врага и отогнали его на 3–4 километра от берега.
Я случайно встретил в боевой цепи своего начальника Нойкина и получил срочное задание возглавить переправу раненых на кубанский берег, в район косы Чушки. Выполнить поставленную задачу было очень трудно. Дело в том, что район Маяка, откуда шла эвакуация, усиленно обстреливался противником из всех огневых средств. На берегу же скопились десятки тысяч военнослужащих. Никакого управления людьми, никакой дисциплины не было. Каждый отвечал сам за себя. Царила всеобщая паника.
На берегу пролива оставался только один дощатый пирс для швартовки рыбацких шхун, которые теперь перевозили людей. По бокам пирса были потоплены две шхуны. Для швартовки оставался свободным только торцевой конец пирса. Все стремились туда, как к последней надежде на спасение.
С пирса было видно, что в морской воде находится большое число трупов, почему-то они были в вертикальном положении. Кто был в шинели, а кто в ватнике. Это были убитые или утонувшие наши люди. Была небольшая волна, и создавалось впечатление, что они как бы маршируют. Страшная картина. Многих она толкала на безрассудные поступки и отчаянные действия.
Напиравшую на пирс дикую неуправляемую толпу приходилось сдерживать силами нескольких человек. На подходившие шхуны мы помещали только раненых. Были случаи, когда под видом раненых пытались пробиться и здоровые. Некоторых из них приходилось сдерживать оружием. Суровая мера, но иного выхода не было.
Был, например, случай, когда четверо здоровых солдат-грузин несли над головами носилки и кричали:
— Пропустите! Пропустите! Мы несем раненого полковника — командира дивизии!
Действительно, на носилках лежал офицер, с четырьмя шпалами на петлицах и перевязанной головой. По его внимательному, настороженному взгляду у меня возникло сомнение — а действительно ли этот человек ранен?
Я приказал положить носилки на пирс и развязать бинт. Никакого ранения не оказалось. Я был в ярости. Вид у меня, наверное, был страшный: на голове каска, несколько дней не бритый, не спавший и не евший. Силы я поддерживал тогда с помощью фляги, наполненной смесью морской воды, сахара и спирта.
Периодически я делал из фляги 2–3 глотка.
Все мы на этой узкой полоске берега находились между жизнью и смертью. В любой момент каждый из нас, живых, мог оказаться среди тех, кто был виден в воде. Тем большее возмущение среди тех, кто находился около пирса и видел картину происходящего, вызвал шкурный, трусливый поступок этого «офицера». Военнослужащие яростными криками требовали от меня расстрела полковника, в противном случае грозили расправиться со мной. При таких обстоятельствах я, как оперработник, имевший право расстрела при определенных экстремальных условиях, поставил полковника на край пирса, левой рукой взял его за грудь, а правой достал пистолет. И тут я увидел, что полковник мгновенно поседел. У меня что-то дрогнуло в душе. Я сказал ему, что выстрелю, но выстрелю мимо, а он пусть падает в воду, словно убитый, и там выбирается как может. Дальнейшей его судьбы я не знаю.
Переправа продолжалась три-четыре дня. Катера и шхуны подходили нерегулярно. Иногда их не было по 5–6 часов. Все это усиливало напряженность в большой массе скопившихся военнослужащих и желание во что бы то ни стало сесть на вновь подходящее судно.
21 мая все было кончено. Противник вновь подошел близко к кромке берега. Ну, думаю, пора стреляться, лучше на пирсе. Под Керчью остались в плену сотни тысяч военнослужащих. Мне самому совершенно случайно удалось уйти с последней, неожиданно подошедшей шхуной, и застрелиться я не успел. Пожилой капитан, он же моторист шхуны, знал меня лично — три или четыре раза он приходил за ранеными.
— Молодой человек, — печально и спокойно сказал он мне. — Это последняя шхуна. Больше не будет.
Я с трудом сел в шхуну, через несколько секунд противник открыл по нам прицельный пулеметно-винтовочный огонь, несколько человек было убито.