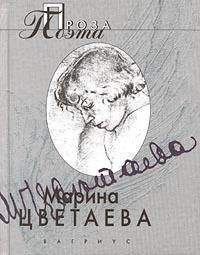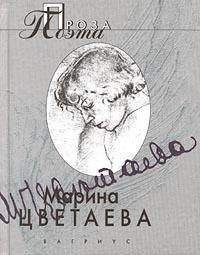Этой открыткой я завладела. Эту открытку я у Валерии сразу украла. Украла и зарыла на дне своей черной парты, немножко как девушки дитя любви бросают в колодец — со всей любовью! Эту открытку я, держа лбом крышку парты, постоянно молниеносно глядела, прямо жгла и жрала ее глазами. С этой открыткой я жила — как та же девушка с любимым — тайно, опасно, запретно, блаженно.
На дне черного гроба и грота парты у меня лежало сокровище. На дне черного гроба и грота парты у меня лежало — море. Мое море, совсем черное от черноты парты — и дела, Ибо украла я его — чтобы не видели другие, чтобы другие, видевшие— забыли. Чтобы я одна. Чтобы — мое.
Так, с глубокой жарко — розовой австралийской раковиной у уха, с сине — чсрной открыткой у глаз я коротала этот самый длинный, самый пустынный, самый полный месяц моей жизни, мой великий канун, за которым никогда не наступил — день.
— Ася! Муся! Глядите! Море!
— Где? Где?
— Да — вот!
Вот — частый лысый лес, весь из палок и веревок, и где‑то внизу — плоская серая, белая вода, водица, которой так же мало, как той, на картине явления Христа народу.
Это — море? И, переглянувшись с Асей, откровенно и презрительно фыркаем.
Но — мать объяснила, и мы поверили: это Генуэзский залив, а когда Генуэзский залив — всегда так. То море — завтра.
Но завтра и много, много завтр опять не оказалось моря, оказался отвес генуэзской гостиницы в ущелье узкой улицы, с такой тесноты домами, что море, если и было бы — отступило бы. Прогулки с отцом в порт были не в счет. На то «море» я и не глядела, я ведь знала, что это — залив.
Словом, я все еще К Морю ехала, и чем ближе подъезжала — тем меньше в него верила, а в последний свой генуэзский день и совсем изверилась и даже мало обрадовалась, когда отец, повеселев от чуть подавшейся ртути в градуснике матери, нам — утром: «Ну, дети! Нынче вечером увидите море!» Но море — все отступало, ибо, когда мы наконец после всех этих гостиниц, перронов, вагонов, Модан и Викторов — Эммануилов «нынче вечером» со всеми нашими сундуками и тюками ввалились в нервийский «Pension Russe» — была ночь и страшным глазом горел и мигал никогда не виданный газ, и мать опять горела как в огне, и я бы лучше умерла, чем осмелилась попроситься «к морю».
Но будь моя мать совсем здорова и так же проста со мной, как другие матери с другими девочками, я бы все равно к нему не попросилась.
Море было здесь, и я была здесь, и между нами — ночь, вся чернота ночи и чужой комнаты, и эта чернота неизбежно пройдет — и будут наши оба здесь.
Море было здесь, и я была здесь, и между нами — все блаженство оттяжки.
О, как я в эту ночь к морю — ехала! (К кому потом так — когда?) Но не только я к нему, и оно ко мне в эту ночь через всю черноту ночи — ехало: ко мне одной — всем собой.
Море было здесь, и завтра я его увижу. Здесь и завтра. Такой полноты владения и такого покоя владения я уже не ощутила никогда. Это море было в мою меру.
Море здесь, но я не знаю где, а так как я его не вижу — то оно совсем везде, нет места, где его нет, я просто в нем, как та открытка в черном гробу парты.
Это был самый великий канун моей жизни.
Море — здесь, и его — нет.
Утром, по дороге к морю, Валерия:
— Чувствуешь, как пахнет? Отсюда — пахнет!
Еще бы не почувствовать! Отсюда пахнет, и повсюду пахнет, но… в том‑то и дело, что не узнаю: свободная стихия так не пахла, и синяя открытка так не пахла.
Настораживаюсь.
Море. Гляжу во все глаза. (Так я, восемнадцать лет спустя, во все глаза впервые глядела на Блока.)
Черная приземистая скала с высоким торчком железной палки.
— Это скала называется лягушка, — торопливо знакомит рыжий хозяйский сын Володя. — Это — наша лягушка.
От меня до лягушки — немножко: немножко очень чистой, очень светлой воды: на дне камешки и стеклышки (Асины).
— А это — грот, — поясняет Володя, глядя себе под ноги, — тоже наш грот, здесь все наше, — хочешь, полезем! Только ты провалишься!
Лезу и проваливаюсь, в своих тяжелых русских башмаках, в тяжелом буром, вроде как войлочном, платье сразу падаю в воду (в воду, а не в море), а рыжий Володя меня вытаскивает и выливает воду из башмаков, а потом я рядом с башмаками сижу и в платье сохну — чтобы мать не узнала.
Ася с Володей, сухие и уже презрительные, лезут на «пластину», гладкую шиферную стену скалы, и отгуда из‑под сосен швыряют осколки и шишки.
Я сохну и смотрю: теперь я вижу, что за скалой Лягушка — еще вода, много, чем дальше — тем бледней, и что кончается она белой блестящей линеечной чертою — того же серебра, что все эти точки на маленьких волнах. Я вся соленая — и башмаки соленые.
Море голубое — и соленое.
И, внезапно повернувшись к нему спиной, пишу обломком скалы на скале:
Прощай, свободная стихия!
Стихи длинные, и начала я высоко, сколько руки достало, но стихи, по опыту знаю, такие длинные, что никакой скалы не хватит, а другой, такой же гладкой, рядом — нет, и все же мельчу и мельчу буквы, тесню и тесню строки, и последние уже бисер, и я знаю, что сейчас придет волна и не даст дописать, и тогда желание не сбудется — какое желание? — ах, К Морю! — но, значит, уже никакого желания нет? но все равно — даже без желания! я должна дописать до волны, все дописать до волны, а волна уже идет, и я как раз еще успеваю подписаться:
Александр Сергеевич Пушкин —
и все смыто, как языком слизано, и опять вся мокрая, и опять гладкий шифер, сейчас уже черный, как тот гранит…
Моря я с той первой встречи никогда не полюбила, я постепенно, как все, научилась им пользоваться и играть в него: собирать камешки и в нем плескаться — точь — в-точь как юноша, мечтающий о большой любви, постепенно научается пользоваться случаем.
Теперь, тридцать с лишним лет спустя, вижу: мое К Морю было — пушкинская грудь, что ехала я в пушкинскую грудь, с Наполеоном, с Байроном, с шумом, и плеском, и говором волн его души, и естественно, что я в Средиземном море со скалой — лягушкой, а потом и в Черном, а потом в Атлантическом, этой груди — не узнала.
В пушкинскую грудь — в ту синюю открытку, всю синеву мира и моря вобравшую.
(А вернее всего — в ту раковину, шумевшую моим собственным слухом.)
К Морю было: море и любовь к нему Пушкина, море + поэт, нет! — поэт + море, две стихии, о которых так незабвенно — Борис Пастернак:
Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха, —
опустив или подразумев третью и единственную: лирическую.
Но К Морю было еще и любовь моря к Пушкину: море — друг, море — зовущее и ждущее, море, которое боится, что Пушкин — забудет, и которому, как живому, Пушкин обещает, и вновь обещает. Море — взаимное, тот единственный случай взаимности — до краев и через морской край наполненной, а не пустой, как счастливая любовь.
Такое море — мое море — море моего и пушкинского К Морю могло быть только на листке бумаги — и внутри.
И еще одно: пушкинское море было — море прощания. Так — с морями и людьми — не встречаются. Так — прощаются. Как же я могла, с морем впервые здороваясь, ощутить от него то, что ощущал Пушкин — навсегда с ним прощаясь. Ибо стоял над ним Пушкин тогда в последний раз.
Мое море — пушкинской свободной стихии — было море последнего раза, последнего глаза.
Оттого ли, что я маленьким ребенком столько раз своею рукой писала: «Прощай, свободная стихия!» — или без всякого оттого — я все вещи своей жизни полюбила и полюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием, не на жизнь — а на смерть.
И, в совсем уже ином смысле, моя встреча с морем именно оказалась прощанием с ним, двойным прощанием — с морем свободной стихии, которого передо мной не было и которое я, только повернувшись к настоящему морю спиной, восстановила — белым по серому — шифером по шиферу — и прощанием с тем настоящим морем, которое передо мной было и которое я, из‑за того первого, уже не могла полюбить.
И — больше скажу: безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась— прозрением: «свободная стихия» оказалась стихами, а не морем, стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются — никогда.
1937
«Звонили колокола по скончавшемуся императору Александру III, и в то же время отходила одна московская старушка[25]. И, слушая колокола, сказала: «Хочу, чтобы оставшееся после меня состояние пошло на богоугодное заведение памяти почившего государя». Состояние было небольшое: всего только двадцать тысяч. С этих‑то двадцати старушкиных тысяч и начался музей». Вот в точности, слово в слово, постоянно, с детства мною слышанный рассказ моего отца, Ивана Владимировича Цветаева, о происхождении Музея изящных искусств имени императора Александра III.