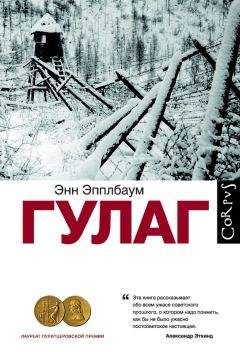В другом советском периодическом издании утверждалось, что заключенные-социалисты питаются лучше, чем красноармейцы. Эти заключенные якобы могут свободно встречаться с родственниками — как иначе они могли бы передавать наружу сведения? — и пользуются лучшим медицинским обслуживанием, чем жители обычных рабочих поселков. Автор статьи с издевкой писал, что эти заключенные требуют золотых зубных протезов и редких, дорогих лекарств.[192]
Это было начало конца. После серии дискуссий, в ходе которых ЦК РКП(б) рассмотрел и отверг план высылки политических за границу (испугались реакции западных социалистов, в особенности британских лейбористов), было принято решение.[193] На рассвете 17 июня 1925 года Савватиевский скит окружили конвоиры. Заключенным было дано два часа на сборы, после чего их отвели на пристань, посадили на суда и отправили в дальние материковые тюрьмы — одних в Тобольск, других в Верхнеуральск. Там условия были гораздо хуже, чем в Савватиево.[194]
Хотя социалисты продолжали бороться за свои права, переправлять письма за границу, перестукиваться через тюремные стены, устраивать голодовки, их протесты тонули в большевистской пропаганде. В Берлине, Париже и Нью-Йорке старые организации, помогавшие заключенным, испытывали все большие трудности со сбором денег.[195] «После событий 19 декабря, — писал один арестант зарубежному другу, имея в виду расстрел шести человек в 1923 году, — нам казалось, что мир содрогнется — наш социалистический мир. Но он словно бы не заметил того, что произошло на Соловках, и трагедия превратилась в фарс».[196]
К концу 20-х заключенные-социалисты потеряли свой особый статус. Они делили камеры с большевиками, троцкистами и обычными уголовниками. На политических, точнее, на «контрреволюционеров», стали смотреть не как на привилегированную группу, а как на людей, стоящих в лагерной иерархии ниже уголовников. Лишенные прав, которые они пытались отстаивать, они теперь интересовали тюремщиков лишь в той мере, в какой могли работать. И только способные работать получали достаточно еды, чтобы выжить.
Глава 3
1929 г.: «великий перелом»
Когда большевики пришли к власти, они сначала проявляли по отношению к своим врагам мягкость. <… > Если бы мы повторили и дальше эту ошибку, мы совершили бы преступление по отношению к рабочему классу, мы предали бы его интересы. И это вскоре стало совершенно ясно.
Иосиф Сталин
20 июня 1929 года к маленькой пристани под стеной Соловецкого кремля подошел пароход «Глеб Бокий». Заключенные смотрели на прибытие с великим ожиданием. Вместо молчаливых, изнуренных арестантов, которые обычно сходили с «Глеба Бокия», на берегу появилась группа здоровых, энергичных мужчин и одна женщина. Они разговаривали, жестикулировали. На сделанных в тот день фотографиях большинство мужчин одеты в военную форму: среди них было несколько видных чекистов, в том числе сам Глеб Бокий. Один из прибывших, выше остальных и с густыми усами, был одет проще: рабочая кепка, незатейливое пальто. Это был Максим Горький.
В числе заключенных, наблюдавших сцену в окно, был будущий академик Дмитрий Лихачев. Он описал и пассажирку: «…виден был пригорок, на котором долго стоял Горький с какой-то очень странной особой, которая была в кожаной куртке, кожаных галифе, заправленных в высокие сапоги, и в кожаной кепке. Это оказалась сноха Горького (жена его сына Максима). Одета она была, очевидно (по ее мнению), как заправская „чекистка“». Группа села в монастырскую коляску «с Бог знает откуда добытой лошадью» и отправилась осматривать остров.[197]
Лихачев прекрасно понимал, что Горький — особый посетитель. В тот период своей жизни Горький был вернувшимся «блудным сыном» большевиков, которые превозносили его на все лады. Убежденный социалист, в прошлом близкий к Ленину, Горький тем не менее не одобрил большевистский переворот 1917 года. В последующих статьях и выступлениях он страстно осуждал переворот и «красный террор», называл политику Ленина «авантюрной», а послереволюционный Петроград — «трясиной». В 1921-м он эмигрировал в Сорренто, откуда поначалу продолжал отправлять на родину гневные послания.
Со временем, однако, его настроение изменилось, и в 1928 году он решил вернуться. Причины его возвращения не вполне ясны. Солженицын довольно зло объясняет возвращение тем, что на Западе Горький «не обнаружил вокруг себя мировой славы, а затем — и денег». Орландо Фигес пишет, что в эмиграции Горький был очень несчастен и не мог терпеть общество других русских эмигрантов, большей частью настроенных куда более антикоммунистически, чем он сам.[198] Каковы бы ни были его мотивы, он приехал обратно с твердым намерением всеми силами помогать советскому режиму. Почти сразу же он предпринял целый ряд триумфальных поездок по Советскому Союзу и осознанно включил в маршрут Соловки. Его многолетний интерес к тюрьмам восходил к собственному беспризорному отрочеству.
О визите Горького на Соловки пишут многие мемуаристы, и все сходятся на том, что на острове были сделаны тщательные приготовления. Некоторые вспоминают, что на этот день бьш изменен лагерный режим, что мужьям позволили повидаться с женами: люди должны были выглядеть как можно более веселыми.[199] Лихачев пишет, что вдоль пути Горького в землю воткнули свежесрубленные елки, что многих заключенных вывели из кремля в лес, чтобы не создавать у него ощущение тесноты. Однако поведение Горького авторы воспоминаний оценивают по-разному. По словам Лихачева, писатель понял, что его дурачат. Посетив лазарет, где персоналу к его приезду выдали чистые халаты, он сказал: «Не люблю парадов» и вышел. Затем Лихачев рассказывает о посещении Горьким детской колонии. Пробыв там минут десять-пятнадцать, Горький потребовал, чтобы его оставили наедине с четырнадцатилетним мальчиком, вызвавшимся рассказать ему «всю правду». Через сорок минут Горький вышел со слезами на глазах.[200]
Однако Олег Волков, который тоже был на Соловках во время визита Горького, пишет, что писатель «глядел только в ту сторону, какую ему указывали».[201] И хотя история о мальчике появляется не только у Лихачева (согласно одной из версий, он сразу же после отъезда Горького был расстрелян), некоторые мемуаристы утверждают, что к Горькому не дали подойти ни одному заключенному.[202] Есть сведения, что впоследствии все письма лагерников Горькому перехватывались администрацией и что по крайней мере один из их авторов бьш уничтожен.[203] В. Э. Канэп, бывший чекист, ставший заключенным, даже утверждал, что Горький посетил штрафной изолятор на Секирке, где сделал запись в контрольном журнале. Один из московских руководителей ОГПУ, сопровождавших Горького, написал там: «При посещении мною Секирной нашел надлежащий порядок». Ниже, по словам Канэпа, Горький добавил: «Сказал бы — отлично».[204]
Хотя мы не можем установить в точности, что именно Горький сказал и сделал на острове, мы можем прочесть очерк, написанный им впоследствии. Горький хвалит в нем красоту соловецкой природы, описывает живописные монастырские здания и их живописных обитателей. Плывя к острову на пароходе, он даже разговорился с соловецким монахом. «А начальство как относится к вам?» — спросил Горький. «Начальство тут желает, чтобы все работали. Мы — работаем», — ответил монах.[205]
Горький с одобрением пишет об условиях жизни заключенных, явно желая внушить читателю, что советский трудовой лагерь — совсем не то же самое, что царская тюрьма. В комнатах женщин, пишет он, «по четыре и по шести кроватей, каждая прибрана „своим“, — свои одеяла, подушки, на стенах фотографии, открытки, на подоконниках — цветы, впечатления „казенщины“ — нет, на тюрьму все это ничем не похоже, но кажется, что в этих комнатах живут пассажирки с потонувшего корабля».
На торфоразработках трудятся «здоровые ребята в холщовых рубахах и высоких сапогах». Горький встречает и нескольких «политических». «Это контрреволюционеры эмоционального типа, „монархисты“, те, кого до революции именовали „черной сотней“», — пишет он. Когда они говорят ему, что их арестовали несправедливо, он предполагает, что они лгут. В одном месте очерка видится намек на легендарную встречу с четырнадцатилетним мальчиком. Какой-то «молодой человек „мелкого калибра“» подал ему сложенный лист бумаги. Но другие заключенные закричали: «Это — шпион!».
Но не только условия жизни делали Соловки в глазах Горького лагерем нового типа. Пассажиры и пассажирки «с потонувшего корабля» не просто довольны и здоровы — они играют главные роли в грандиозном эксперименте преобразования преступных и антиобщественных личностей в полезных членов советского общества. Горький подхватил идею Дзержинского о том, что лагеря должны быть не только средством наказания, но и «школами труда», перековывающими правонарушителей в работников, в которых нуждается новая советская система. Конечная цель эксперимента, который «дал уже неоспоримые положительные результаты», — «уничтожить тюрьмы для уголовных». «Если б такой опыт, как эта колония, дерзнуло поставить у себя любое из „культурных“ государств Европы, — пишет Горький в конце очерка, — и если б там он мог дать те результаты, которые мы получили, государство это било бы во все свои барабаны, трубило во все медные трубы о достижении своем в деле реорганизации психики преступника». Мы же «по скромности нашей» не умеем писать о своих достижениях.