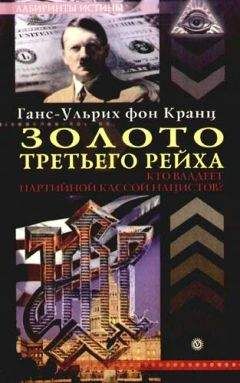Прусский эксперимент завершился большим конфузом. Едва была разработана детальная модель государственной системы лагерей, как тут же она дала трещину. И ее неработоспособность усугублялась отсутствием инициативы сверху. Сам Герман Геринг засомневался относительно своей концепции крупных лагерей и стал даже настаивать на том, чтобы выпустить на свободу побольше заключенных. А прусские чиновники низовых уровней действовали вразнобой. В конце ноября 1933 года министерство внутренних дел полностью утратило контроль над лагерями, перешедшими к недавно получившему самостоятельность прусскому гестапо, функционировавшему в качестве особой структуры и подчинявшемуся непосредственно Герингу. Однако гестапо так и не представило собственной систематизированной концепции, и за ближайшие месяцы прусская политика в этом деле была, по сути, пущена на самотек[255]. Свойственные прусской государственной системе неразберихи и конфликты отражались и в функционировании главных лагерей в Эмсланде на протяжении всего долгого года террора[256].
Лагеря Эмсланда: взгляд изнутри
Однажды утром в июле 1933 года Вольфганг Лангхоф проснулся от пронзительных свистков и криков. Он понятия не имел, куда попал. Еще не оправившись от сна, Лангхоф огляделся и понял, что находится среди каких-то кроватей, на которых лежат столь же удивленные люди. Внезапно он все вспомнил, и тут же у него дыхание перехватило от охватившего его ужаса: он был заключенным лагеря Бёргермор в Эмсланде. Лангхофа доставили туда в составе большой партии арестованных прошлым вечером. Лангхоф мог считаться ветераном первых лагерей, его арестовали еще 28 февраля 1933 года в Дюссельдорфе, где он был известным театральным актером, часто выступавшим в героических ролях, и еще – коммунистическим агитатором. Уже стемнело, когда Лангхоф миновал ворота Бёргермора, и, придя наконец в лагерь после изнурительного пешего марша с располагавшейся довольно далеко железнодорожной станции под постоянными окриками эсэсовцев, он буквально свалился на соломенный тюфяк в огромном помещении. Теперь сквозь окна сочилась призрачная утренняя мгла, и он мог осмотреться. Убогий деревянный барак приблизительно 40 метров длиной и 10 шириной напоминал конюшню. Большую часть его занимали двухъярусные койки, на которых размещались около сотни заключенных, несколько узких шкафчиков для их имущества. Еще кусок площади был отведен для обеденных столов со скамьями. В дальнем конце барака располагалась уборная.
Водопровод в барак не провели, умываться приходилось на улице. Висел густой туман – частое явление для этой местности. Когда он рассеялся, Лангхоф убедился, что лагерь представляет собой барачный городок и его барак был всего лишь одним из многих выстроившихся аккуратными пятью рядами приземистых деревянных построек по обе стороны прохода, разделявшего надвое прямоугольник лагеря. Кроме того, было пять административных бараков, включая кухню, больницу и бункер. Комплекс построек, напоминавший немецкие лагери военнопленных времен Первой мировой войны, был окружен двумя параллельными рядами ограждений из колючей проволоки с узким коридором внутри для прохода патрулей. С другой стороны, возле ворот и сторожевой вышки (оснащенной прожекторами и пулеметами), стояли бараки на вид приличнее; здесь охранники СС занимались канцелярской работой, спали и напивались. За этими бараками уже не было ничего, за исключением белого шеста с флагом со свастикой, нескольких засохших деревьев и ряда телеграфных столбов, протянувшихся до самого горизонта. «Бесконечная равнина, пустошь, куда ни посмотри, – писал Лангхоф два года спустя. – Повсюду два цвета – бурый и черный, повсюду узкие рвы и канавы». Трудно вообразить себе более неуютное место, чем Бёргермор, притаившийся в глуши малонаселенного Эмсланда[257].
Бёргермор был одним из четырех почти идентичных государственных лагерей – еще один располагался в Нойзуструме и еще два – в Эстервегене. Все они были открыты прусским министерством внутренних дел в период с июня по октябрь 1933 года на широкой равнине, в основном на невозделываемых землях, в северной части Эмсланда. Решение о сооружении этого комплекса было принято еще весной 1933 года, и министерские чиновники вскоре стали считать его основным в прусской государственной системе[258]. Особый характер этих лагерей был очевиден даже на первый взгляд. В отличие от других мест лагеря Эмсланда так и не были обнаружены впоследствии. Вместо того чтобы приспособить существующие постройки, власти запланировали возвести и специальные новые, вынудив заключенных самим строить их собственные барачные лагеря, которым была уготована участь стать неким образцом, стандартом лагерной системы СС в последующие годы[259]. Этот новый комплекс не только сильно отличался внешне от других прусских лагерей, он значительно превосходил их по территории. В общей сложности к осени 1933 года во всех лагерях Эмсланда содержалось до 4500 заключенных – то есть половина всех заключенных государственных концентрационных лагерей Пруссии[260].
Принудительный труд также определял особый статус лагерей Эмсланда среди остальных. Здесь заключенные работали не спорадически, как в самых первых лагерях, а на постоянной основе. Возделывание торфяников Эмсланда, в последние годы значительно активизировавшееся в течение предыдущих лет, сулило выгоду, как экономическую, так и идеологическую. Освоение земель стимулировало развитие сельского хозяйства Германии, обеспечивало его самодостаточность и, кроме того, вполне вписывалось в нацистские доктрины «кровь и почва» и «лебенсраум», то есть «жизненного пространства». Кроме того, в лице заключенных предприятия малого бизнеса получали дешевую рабочую силу. Но самым важным было то, что такого рода труд довершал пропагандистский образ первых лагерей как мест «трудового перевоспитания».
На практике же принудительные работы в лагерях Эмсланд были одним из способов издевательств над заключенными. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер несколько лет спустя признал: «Я еще преподам вам хорошие манеры, отправив вас на торфяники»[261]. Заключенные ранним утром в 6 часов (или даже раньше летом) уходили из лагеря, где спали, обычно дорога к месту работы занимала больше часа. По пути их нередко заставляли петь, впрочем, эсэсовцы вскоре запретили исполнение «Песни болотных солдат», сочиненной тремя заключенными (в том числе и Вольфгангом Лангхофом). На торфянике заключенные рыли канавы и перебрасывали землю, причем темпы работы были просто невыносимыми, но приходилось успевать, чтобы избежать наказания за недовыполнение ежедневной нормы. После первого дня на торфянике Вольфганг Лангхоф писал: «Ладони в пузырях мозолей. Кости ломит, каждый шаг отдается болью во всем теле. И ради чего это все? Ведь если вместо сотни человек пригнать сюда пару тракторов, они справились бы с этой работой за несколько дней»[262].
Невзирая на все свои отличия, лагеря Эмсланда, по сути, были и оставались обычными среди других первых лагерей СС, охрану которых осуществляли штурмовики из батальонов СА. Среди заключенных в Эмсланде также преобладали левые, причем в основном именно коммунисты. И эти люди на каждом шагу сталкивались с неприкрытым насилием. Хотя во главе каждого лагеря Эмсланда стоял госслужащий – представитель полиции, всем в лагере заправляли служащие охранных отрядов СС – озлобленные ветераны Первой мировой войны, присоединившиеся к нацистскому движению незадолго до его успеха на выборах в 1930-х годах[263].
Как в других первых лагерях, издевательства эсэсовцев достигали пика с прибытием очередной партии новых заключенных – известных политиков и евреев[264]. 13 сентября 1933 года в Бёргермор прибыл транспорт в составе примерно 20 человек из Ораниенбурга. Их здесь ждали с нетерпением уже несколько дней. Эсэсовцы-охранники, выстроив заключенных, вывели двух самых известных из них – Фридриха Эберта и Эрнста Хайльмана. И «приветствие» в лагере СС Бёргермор было куда более зверским, чем в лагере Ораниенбург пятью неделями ранее. По прибытии обоих подвергли оскорблениям и избили палками и отломанными от столов ножками. Позже двух социал-демократов вместе с тремя новыми еврейскими заключенными (среди них раввин Макс Абрахам) бросили в яму якобы для «встречи парламентской группы», как выражались нацистские изуверы. Хайльман, весь в крови, молил их о милосердии, но его ненадолго решили похоронить заживо, а Эберт наотрез отказался выполнить приказ эсэсовца избивать ногами других заключенных, в противном случае его пообещали избить. Остальные заключенные заметили, что поступок Эберта произвел впечатление на охранников, и те потом уже не вели себя с ним столь беспардонно.