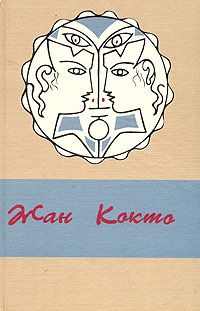По логике, в молодости мы должны переносить боль легче, потому что впереди бесконечность и надежда на выздоровление. Тем не менее, в юности я терпел боль хуже чем теперь. Должен, впрочем, признать, что времени у меня в запасе немного, и если боль вскоре не прекратится, я рискую никогда от нее не избавиться. Я нахожу, что мой нынешний возраст не так глуп, как моя юность, и что боль я переношу лучше не от смирения или усталости, но от внутренней уравновешенности. Также вполне вероятно, что, не имея более возможности терять время, я заставляю себя преодолевать боль и хватаюсь за работы, которых моя болезнь пытается меня лишить. Или, может, из-за того, что я не нахожу себе иного применения, кроме духовного, я менее подвластен физической деградации. И хотя в последние полгода страдания не оставляют меня ни на минуту и болезнь, обводя медицину вокруг пальца, принимает все новые и новые формы, я держусь бодро и мужественно. Когда я пишу эти строки, мне становится легче. Случается даже, что я начинаю предаваться воспоминаниям — хотя эта книга советует мне приструнить их, — и тогда я совершенно забываю о своей болезни и живу не в комнате, где работаю, а в том месте и времени, которое описываю.
Надо разобраться — коль скоро именно работа работает над нами, а не наоборот, и мы ни за что не в ответе, — не является ли она защитной реакцией на боль, вынуждающую меня писать эту книгу.
Мне нравятся люди, по которым уже в молодости можно сказать, какими они будут стариками. Жизнь формирует их, совершенствует. Из набросков они становятся тем, чем должны быть, и фиксируются в этом состоянии. Мне не повезло. У меня молодость затянулась. Со временем она подпортилась и плохо фиксируется. Так что с виду я похож на случайно забредшего в старость молодого человека или же на старца, по недоразумению застрявшего в юношеском возрасте. Кое-кому может показаться, будто я нарочно стараюсь выглядеть моложе. Но это совсем не в моем характере. Молодой прекрасен своей молодостью, а старик — своей старостью. Молодость должна сквозить в словах, во взгляде. Моя же кажущаяся молодость вызывает у меня чувство досады, поскольку она толкает меня совершать поступки, совсем мне не свойственные: я терпеть не могу, когда рисуются, и если бы мог себя контролировать, то играл бы роль старика. Мне стыдно в этом признаться, хоть я и решил ничего не таить, но мое простодушие очень мне мешает, заставляя совершать ошибки, какие не совершил бы никакой другой человек моего возраста. Я ничегошеньки на свете не знаю. В любой науке я полный дурак, и когда из-за имени мне приходится участвовать в конференциях, я, к стыду своему, обнаруживаю, что не понимаю, о чем говорят мои коллеги. Странного вида старик, который, закрыв глаза, качает головой и делает вид, что внимательно слушает, а сам думает: «Двоечник я, двоечник…» Я царапаю что-то у себя на парте. Все думают: «Как он сосредоточен!» А я просто ничего не делаю.
Боль я оборачиваю себе на пользу: она принуждает меня к дисциплине. Бывали времена, когда я ни о чем не думал, во мне крутились тогда одни только слова: стул, лампа, дверь и другие предметы, на которые падал взгляд. Эти времена пустоты остались далеко позади. Боль не дает мне покоя, и я вынужден думать, чтобы отвлечься. Это прямо противоположно тому, что говорил Декарт. Я существую, значит, я думаю. А я не существовал бы без боли.
Где конец моим мучениям? Должен ли я пройти этот путь до конца? Сойду ли я с него? Может, это уже старческое? Нормально ли то, что со мной происходит, или это случайность? Сомнения сдерживают мой бунтарский порыв и заставляют сносить боль терпеливо. Не хочу ко всем моим смешным чертам добавлять еще одну и воспринимать себя как молодого человека, безвременно сраженного болезнью.
Возможно, однажды утром я проснусь и обнаружу, что у меня ничто нигде не болит, и все мои мрачные предчувствия забудутся. Это, конечно, было бы неплохо, но лучше уж я останусь пессимистом. Я всегда был пессимистом — из оптимизма. Я слишком надеялся, поэтому на всякий случай готовил себя к разочарованию.
Врачи прописали мне снег, горы. «Это единственное, что вам поможет», — говорили они. Мои микробы должны были исчезнуть, как по волшебству. Я не поверил. Эти микробы — к какому бы миру они не принадлежали, к растительному или к животному, — так же далеки от меня, как звезды. Я их чувствую. А они обо мне не знают. Я тоже о них не знаю. Микроскоп нацелен в меня, как телескоп в небо, он исследует моих микробов, ничего в них не понимая. Похоже, им пришлись по вкусу и горный воздух, и снег. Я об этом уже говорил. Им нравится, когда я дышу, сплю, ем, хожу, толстею. Они на мне паразитируют. Я — их бог, и они меня терзают. Марсель Жуандо{73} прав, когда утверждает, что люди заставляют Бога страдать. Иногда я говорю себе: «Бог не о нас думает. Он думает нами». Мои микробы оживают. Они заставляют меня страдать. Я начинаю о них думать. Я говорю себе, что Бог страдает через созданные им миры. И будет страдать вечно.
Болея, я могу спать. Сон притупляет боль. Просыпаюсь я с ощущением, что боль меня оставила. Длиться это не дольше вспышки. Другая вспышка водворяет боль на место. Сегодня ночью меня скрутил такой сильный приступ, что даже сон меня не взял. Микробы пожирали мою правую руку. Трогая лицо, я чувствовал пальцами корку, маску, под которой микробы развили бурную жизнедеятельность. Они перебрались ко мне на грудь и украсили ее россыпью пунцовых звезд, столь хорошо мне знакомых. Уж не солнце ли так ожесточает этот сумеречный народец и не вчерашний ли ясный день повинен в моем приступе? Ну и охота у них пошла! И какая легкая добыча! Врачи рекомендовали мне совершенно безвредное оружие. Мази, настойки, сыворотки. Не буду лечиться. Поможет, наверное, только смерть — то есть конец моего света.
Что еще, кроме боли, меня угнетает, так это несоизмеримость столь крошечных созданий с моими масштабами. Хотелось бы знать, как долго у них длится век, сколько за это время сменяется поколений, королевская власть у них или республика, как они передвигаются, как веселятся, как строят и на чем основана их трудовая деятельность. Невыносимо носить в себе целый народ и ничего про него не знать. Почему сегодня ночью они стали вгрызаться между пальцами моей правой руки? Почему утром оставили руку в покое и, преодолев огромное расстояние, переселились на грудь? Сколько во мне сокрыто загадок, а я перед ними оказываюсь полным профаном. Может быть, этой ночью во мне разыгрывалась Столетняя война. Война в мире всегда одна. Человечество думает, что они разные. Короткие передышки представляются ему нормальным состоянием, то есть миром. Может, то же самое происходит и у микробов: мои приступы — это их бесконечные войны, а непродолжительные затишья — их перемирия. С моей точки зрения, это беспрерывная война. С их — множественные войны, не связанные между собой и разделенные периодами мира.
В эту ночь мне было так худо, что я не придумал ничего лучшего, чтобы забыть о боли, как думать о ней же. Это был своего рода отвлекающий маневр. Мне его навязала боль. Она осадила меня со всех сторон. Расставила войска. Разбила лагерь. Она устроила все так, чтобы ни на одной позиции не быть нестерпимой. Она была терпима на всех позициях. Я хочу сказать, что, рассредоточившись, нестерпимое стало казаться терпимым из-за того, что оно само себя повторяло. Это было терпимо и нестерпимо одновременно. Сломанный орган, в котором не переставая звучит финальный аккорд. Боль — просторная, полная, богатая, уверенная. Уравновешенная боль, к которой я любой ценой должен был привыкнуть.
Я поставил себе целью потихоньку к ней приноровиться. Малейшая попытка бунта с моей стороны могла еще пуще ее разжечь, распалить ее гнев. Я должен был как благодеяние принять ее победу, ее оснащение, траншеи, стоянки, палатки, костры и дневальных.
К девяти часам она завершила приготовления: стратегическое передислоцирование, выстраивание в цепь. В десять все стояло на своих местах. Позиции были заняты.
Сегодня утром она вроде бы продолжает тактику выжидания. Но уже второй раз за время моего пребывания здесь выглядывает солнце. Что мне делать? Прятаться от этого солнца или употребить его как секретное оружие против дремлющей армии противника? Застигнуть ее врасплох? Или пусть себе спит?
С последними лучами солнца я перешел в наступление. И действительно, микробы зашевелились. Испугались пурпурного неба, в виде которого я предстал в их ночи? Какой начался переполох у них на дорогах! Люди толкались, животные вставали на дыбы. Боль искала себе новое пристанище, усиливалась, отступала, меняла место. У меня вспухли глаза, сморщились веки, под ними набрякли мешки. Несметные полчища микробов бросились прятаться мне под мышки.
Медицина тут бессильна. Надо терпеть, пока все вояки не перебьют друг друга, пока все племя не вымрет и на прежнем месте не останутся одни руины. У микробов, как у людей — нет средств для борьбы с массовыми бедствиями.