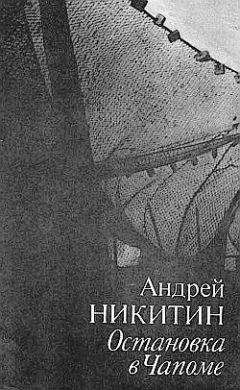Переплетение прошлого и настоящего, собственно говоря, и рождало тот романтический взгляд на Север, которым грешил не только я, привыкший смотреть на современность глазами археолога, отыскивая в сиюминутном контуры времен давно ушедших. Романтика "высоких широт" здесь представала еще и экзотикой быта, заставляющей вспомнить, что испокон веков край этот был источником пушнины, бледно-розовой семги и прозрачных сигов для царского стола, стремительных соколов для царской охоты, перевалочной базой для плаваний на Грумант, как называли поморы Шпицберген, и дальше, не только в Норвегию, но и на восток, прокладывая путь в далекую Мангазею... И разве один я подпадал колдовству Севера? Сколько их было до меня, слышавших властный зов пространств, поколение за поколением устремлявшихся следом за весенними птицами, продиравшихся через чащобы лесов, преодолевавших зыбкие топи болот и кипящие пороги на реках...
Зачем они шли? За наживой, за свободой, за истиной духовной? Да, за всем этим. Но еще и для того, чтобы снова и снова, шагнув внезапно из лесного бурелома на золотой песок прибрежных дюн, замереть от восторга, увидев убегающие к горизонту лукоморья, солнечной оправой охватившие ярко-синий и холодный безбрежный простор. Пустынножители, основатели монастырей и сел, искавшие свободы открыватели еще неведомых пространств северной России - все они были не только энергичными людьми, но и поэтами по своей сути. Они умели видеть и находить красоту, ценить и приумножать ее, охранять ее, наслаждаться ее созерцанием и через нее приобщать людей к высоким гражданским подвигам, облекаемым в ризу подвигов духовных.
Помню, как я был поражен, обнаружив у Ивана Филиппова, старообрядца, оставившего, кроме прочих трудов, историю Выговской пустыни, фразу, в которой этот ревнитель древлего благочестия, в поисках сравнения, способного передать высшую красоту избранного для постройки обители места, написал, что оно "прекрасно аки песок при брезе моря"!
В этой фразе человек открылся мне куда больше, чем через все остальные написанные им страницы. Она была как выдох после затаенного дыхания, как притушенный вскрик восторга. И на какое-то мгновение я ощутил себя рядом с ним возле Летней Золотицы в ясный погожий день, когда на горизонте угадывается далекая тень Соловецких островов, а волны неторопливо набегают на низкий песчаный пляж... Да, в мире много прекрасного. Но среди увиденного и пережитого в моей памяти далеко не последнее место занимают пустынные берега северных морей, где остаешься один на один с бескрайним простором, где дышится вольно и легко, глаз не перестает радоваться сверканию красок и внезапно до тебя доходит как откровение, сколь прекрасен и бесконечен мир, который подарен тебе судьбой.
Стоит один только раз проникнуться этой красотой, понять свою ей сопричастность, чтобы все остальное отошло на задний план. Это чувство не смогут стереть затяжные циклоны, когда серый и мокрый холод словно проникает под кожу и, кажется, уже никогда не увидеть солнца, смытого зарядами дождя; его не вытравит долгая, пусть и расцвеченная сполохами полярного сияния северная ночь и многое другое, с чем сталкивается человек в высоких широтах.
А реки и ручьи, полные быстрой рыбы, то разливающиеся обширными спокойными плесами, то стиснутые скалами, перегороженные грядами камней, кипящие и ревущие на стремнине? А бесчисленные лесные озера, связанные нитками проток, с царственно выплывающими из заливов белыми лебедями, грациозными серыми цаплями, неспешно пробирающимися по их берегам медведицами с медвежатами, выходящими на водопой лосями? А многоцветье камней, сверкающих на дне ручьев, играющих на отливе, вспыхивающих гранями кристаллов, которые заполняют в скалах трещины и пустоты? Или раздутые, расчищенные ветрами стойбища древних охотников и рыболовов на морском берегу, каменные спирали их загадочных жертвенников, россыпи колотого кварца и хрусталя, а рядом - черные груды обожженных камней, еще хранящие под собой золу и угли костров, согревавших людей четыре-пять тысяч лет назад?
Первым найти, понять, объяснить, определить место найденного в системе мира,- разве не в этом самая высокая романтика?
И все же, по мере того как я открывал для себя этот край, я чувствовал, что гораздо больше, чем загадки прошлого, меня влечет загадка его настоящего и будущего. Прошлое было везде. Оно обступало со всех сторон, оно пронизывало и определяло настоящее. Но для будущего места почему-то не оказывалось. Для того будущего, которое всегда влекло меня, потому что я был не только археологом, но еще и историком.
Принято считать, что историк занимается исключительно прошлым. Тем, что уже произошло, стало фактом, не подверженным изменениям. Именно поэтому его можно изучать. Объяснить факт, поставить его в связь с другими фактами, показать, как он возник, что собой означает.
Но такова лишь одна, самая первая часть задачи. Обычно полагают, что прошлое рождается в настоящем, а будущее - в прошедшем. В какой-то мере это тоже "факт", содержащий информацию о том, что будущее включает в себя всю сумму прошедшего.
И все же прошлое рождается не только в настоящем - на самом деле оно рождается в будущем. Там происходит его формирование, там оно зреет и в положенное время становится нашим прошлым. Вот почему историк, который спускается к нему лишь для того, чтобы описать уже бывшее, и останавливается на этом, оказывается всего только архивариусом, не понимающим происходящего.
Действительная задача историка - найти в прошлом разгадку настоящего и будущего, чтобы попытаться на них воздействовать. И разве не для этого мы изучаем окружающий нас мир, пишем книги, выпускаем газеты, строим не всегда удачные планы, отправляемся в космос и раскапываем древние погребения и города?
Но кто я теперь - историк, археолог, журналист? Скорее всего - просто должник, совесть которого давно мучит обещание, принародно вырвавшееся у него тихим августовским вечером 1966 года. А больше всего на свете я не люблю долгов.
Все началось с Порьей Губы и парусной шхуны "Запад".
То лето было на редкость теплым и щедрым. Каждые две недели, выйдя из Архангельска, "Запад" брал курс на Порью губу - огромный комплекс разнообразных заливов, больших и малых островов, вытянутых губ-фиордов, в верховьях которых начинались цепи озер. Все это лежало на южном берегу Кольского полуострова между Умбой и Кандалакшей. Озера изобиловали окунем, щуками, форелью и кумжей, на каменистых хребтах, разделяющих губы, в то лето было буйство грибов и ягод, так что учения у курсантов перемежались вылазками на берег и активными заготовками всего съестного, что разнообразило судовое меню.
В тот вечер мы впервые зашли на рейд Восточной Порьи, чтобы пополнить запасы пресной воды. Пока курсанты помогали команде подавать на берег шланги, мы с "дедом", как повсеместно на флоте именуют старшего механика, отправились в деревню, лежавшую неподалеку и называвшуюся Порьей Губой.
Тропинка текла по красно-рыжим скалам, присыпанным сосновой хвоей и обросшим подушками зеленого мха, стлалась по узлистым корням, обогнула древнее кладбище, где сквозь поросль молодых сосен виднелись полусгнившие голубцы-домовины, и, выведя на берег пресного озера, отделенного от залива узкой каменной перемычкой, разом открыла картину, которая врезалась в мою память.
За серо-стальной зеркальной гладью озера, в котором отражались высокие, поросшие соснами скалы, освещенная вечерним солнцем, лежала небольшая, уютная и чистенькая деревенька. Ее дома были разбросаны по едва заметным береговым террасам, вплотную подступая к обрывам высоких, покрытых лесом скал. Сочная трава поднималась по обеим сторонам чистых, промытых дождями мостков, идущих от дома к дому. В небольших палисадниках-огородах зеленела темная картофельная ботва, пустые стекла окон горели закатным светом. Вокруг стояла прозрачная тишина. И в этой тишине навстречу нам двигалась скорбная группа старух с двумя стариками и полутора десятком ребятишек - как видно, внуками и правнуками.
Мы с "дедом" не сразу поняли, что произошло, когда старухи обступили нас и, перебивая друг друга, стали совать нам какие-то листки, о чем-то прося и в то же время упрекая нас. Старики с медалями и орденами на пиджаках молча стояли поодаль, опершись о палки и не вмешиваясь в происходящее. И так же молчаливо, держась за юбки старух и ковыряя пальцами в носах, смотрела на нас мелюзга.
Наконец мы разобрались.
Нас приняли за комиссию, которую здесь ждали все лето; комиссию, которая, как непреклонно верили порьегубцы, разберется в их жизни и примет их под свою защиту. Защитить их следовало от местных властей, которые закрыли здесь колхоз, переселив жителей в Белокаменку, на другой конец Кольского полуострова. И как ни отстаивали порьегубцы свое право жить на земле своих отцов и дедов, как ни доказывали свою невиновность перед советской властью, что дорога к ним идет через болота и вараки, электричество только от движка, а вот рыбу ловят они хорошо, и покосы есть, и молоко такое, что грамоты и медали на ВДНХ получали не раз,- ничего не помогло. Село было обречено. Вместе с колхозом закрыли магазин, медпункт и почту. Людей, согласившихся переселиться, перевезли вместе со скотом в Белокаменку. Отказавшиеся перебираться под Мурманск разъехались по городам, у кого где родственники были. А вот этим ничего не осталось, как только ждать ответа на их слезные просьбы не лишать стариков и детей хлеба, почты и родных домов, о чем писали и в область, и в Москву.