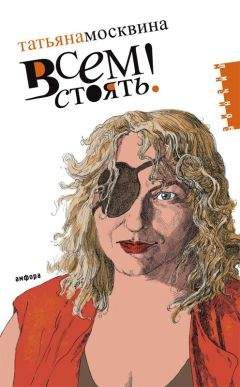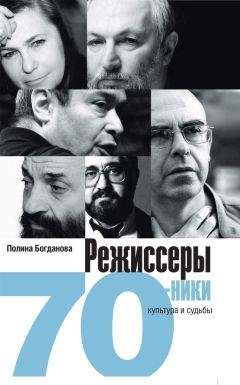Подобные хвалы родному городу и месту, трогательные и очень простодушные (поскольку слава города зависит, например, от наличия в нем хороших кабаков), – капля в море народной песни. Это море шумит-поет нам о другом – о жизненном цикле простого человека, о превратностях его судьбы, о его любви, радости, горе. О его доле, наконец.
Повторю: в народном самосознании не существует понятия о своем величии и своей исключительности. Тот, кто рожден с естественной мыслью – «за морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое», – есть часть целого, целому никак не противопоставленная.
Совсем иная картина получается от чтения текстов патриотических песен, скажем, 50х – 80-х годов нашего столетия. Здесь человек выделяется из целого, помещается как бы напротив своей Родины, внимательно ее рассматривает и доказательно объясняет, за что, собственно, он ее любит (я имею в виду именно массовый поток таких произведений, не единичные образцы индивидуального творчества).
Во-первых – «здесь проходила юность моя».
Во-вторых – «ты хороша, земля моя родная» (перечисляются поля, луга, озера, просторы и т. п.).
В-третьих – «золотое раздолье, вольно дышится тут», «здесь, под небом под звездным, я счастливо живу». Живи автор этих строк несчастливо, то, стало быть, еще неизвестно, был бы риторическим или нет вопрос, поставленный в одной из песен: «изменю ли тебе я, другие края полюбя?» А так – баш на баш, люблю тебя – живу счастливо…
Притом эта магическая, заклинательная, неестественная напряженность (верю! люблю! славлю!) старательно стилизована под лирическое излияние простой народной души.
Однако натужные, искусственные, специальные «патриотические» усилия (не сам патриотизм! Надеюсь, понятно, что речь не об этом) абсолютно чужды народному сознанию. Во всяком случае, тому, что было раньше.
А теперь?
Наверное, нет большой нужды доказывать, что народное творчество и массовая культура есть вещи противоположные и враждебные друг другу. Для меня это аксиома.
Большой наивностью было бы считать, что массовую культуру навеяло нам западным ветром, что она у нас не слишком значительна и связана только с некоторыми явлениями последних лет, скажем, с эстрадизацией театра или развлекательным кинематографом.
Массовая культура заключает нас в крепкие свои объятия чуть ли не с колыбели. Если вы сомневаетесь, то загляните в методички для утренников в детском саду, в буквари, учебники родной речи и пособия по внеклассному чтению, сценарии массовых празднеств и содержание торжественных концертов и т. п.
Да здравствует Родины мирное небо!
Да здравствует море растущего хлеба!
Леса, и сады, и большие поля!
Да здравствует наша родная земля!
Это читают и пятилетний малыш, и пятидесятилетний народный артист. И казалось бы, что тут может вызвать возражение? Кто в самом деле не желает мирного неба, моря растущего хлеба, здоровья лесам и полям родины?
И тем не менее в этих «многотиражных», колоссально распространенных заклинаниях заключена многотиражная ложь.
Она будет особенно видна, если разместить ее на фоне того, что реально происходило с лесами, полями и реками нашей родины, с ее городами, культурными ценностями и людьми искусства. Очевидно, напряжение влюбленной в Россию души должно было в этих заклинаниях и разрешиться, чтобы на реальную родину уже мало что оставалось.
В безличном пространстве этой массовой культуры человеческая жизнь, отдельная, личная, неповторимая, – переставала существовать.
Человек становился абстрактной единицей в числе других абстрактных единиц (рек, озер, лесов, полей) – и с десятикилометровой высоты того самолета, на котором эта массовая культура создается, он уже был неразличим.
Эта массовая культура направлена на то, чтобы человек сызмальства приноравливался прятать свое личное живое нутро в одежды мнимостей, научился принимать требуемые формы и растворяться в магических заклинаниях.
Приноровился? Научился? Растворился?
Теперь зайдем с другой стороны.
В 1987 году на ленинградском фестивале самодеятельных рок-групп где-то ближе к концу произошло нечто вроде скандала.
С отвращением описывали потом некоторые газеты, как на сцену вылез долговязый, в тельняшке панк. Он плевался, ругался, курил, грубил, что-то хрипел – короче говоря, всячески оскорблял эстетические чувства воспитанной аудитории.
Но сочли, что это было правильно и хорошо, поскольку таким гласным образом возмутительный панк разоблачил сам себя и все увидели, что ничего интересного запретный плод из себя я не представляет.
А вот давайте послушаем и его, ужасного панка:
Ясень к земле клонится,
Как моя душа,
Снова в холодильнике
Нету ни шиша.
До получки маленькой
Мне четыре дня.
Не ходите, девушки, замуж за меня!
Мне четыре дня.
Не ходите, девушки, замуж за меня!
Особенно хорошо это, до слез пронзительное – «до получки маленькой мне четыре дня…» Всерьез полагаю такую песню образцом подлинного народного творчества.
Дело тут не в использовании каких-то фольклорных образов или интонаций. Здесь индивидуальность претворена в лирический монолог простого (ни шиша) русского (ясень – душа), советского (до получки маленькой) современного (холодильник) человека, задушевно и с юмором рассказывающего нам о своей немудреной жизни. Все искренне, естественно – никакими специальными средствами не добьешься этой «фольклорной» шероховатости, несовершенства. А что мудреные формы принимает нынче русская душевность, заворачиваясь аж в оболочку дикого эпатажа, так не диво – ведь невдалеке маячит пресс массовой культуры, если пройдется – может, и не раздавит: уж очень твердо.
И этот человек, что из песни, – он, конечно, ничего не имеет против того, чтобы леса и холмы, и родные поля здравствовали. Но петь его тянет о другом.
О доле своей.
Идея национальной исключительности и национального величия есть идея всякой и любой империи. «Тому в истории мы тьму примеров…» Если эти идеи не имеют или теряют свое господствующее положение, значит, нация не имеет или теряет значение империи.
В семидесятых годах прошлого века два гения сотворили два художественных мира, тесно связанных с их национальной философией и мнением о национальном характере. Это «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина и «Снегурочка» А. Н. Островского. Город Глупов – и Берендеево царство.
Власть в Глупове изначально враждебна населению – губит ли она его в поисках крамолы, потакает ли его врожденному свинству. От одного безумия к другому – так движется история Глупова, и движется к катастрофе. Градоначальники сделаны из особого материала, заставляющего позабыть не только о разуме, но и вообще о какой бы то ни было человечески постижимой норме.
При особенной, восторженной любви к Щедрину, которого Островский называл библейским пророком, пророком по отношению к будущему (желающие могут проследить, что именно сбылось из пророчеств Щедрина, – выйдет неплохая книга), щедринское решение вопроса о движении национальной судьбы не могло удовлетворить драматурга. И поэтический образ прарусского народа из «Снегурочки» является, конечно, полемическим и дополнительным по отношению к народу «Истории одного города».
«Берендеево царство» Островского – иной, не сатирический взгляд на мир русских верований и чаяний. Жизнь берендеев, при всей ее натуральности и красочности, есть составляющая некоего трагического целого. Ведь пьеса заканчивается гибелью Снегурочки и Мизгиря, а разве гибель главных героев свидетельствует о благополучии мироустройства? – но все-таки зависят берендеи от мудрого царя и всевластного Ярилы-солнца, а не от безумного произвола разнородных мерзавцев.
«Да, трагично, но не бессмысленно», – словно говорил Островский.
Традиция щедринского отношения к вопросу о движении национальной судьбы имела довольно обширное продолжение. Щедрин был математиком русской жизни, открытые им величины описывал с максимально возможной ясностью, и неплохо, густо населена его «математическая школа». Все последующие сколь-нибудь примечательные сатирики и фельетонисты – исключая, конечно, тех невинных зубоскалов и сочинителей комических куплетов, которых у нас тоже почему-то торжественно величают «писателями-сатириками» в надежде убедить нас, что это-то и есть сатира, – все они, разумеется, имели перед глазами город Глупов.
«Снегурочка» Островского выродилась в какую-то немыслимую сусально-карамельную пошлость. Что в кино (где ее ставили несколько раз), что в детских спектаклях драмтеатров, что в опере (минус музыка) – все те же залихватски хохочущие берендеи, слащавый Лель, царь с приклеенной бородой, Снегурочка, трактуемая на манер Золушки, декоративные леса и этнографические пляски.