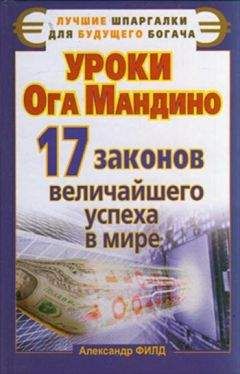Ответственность командира — страшное дело. Кто не пробовал, тот не знает. У меня здесь более тридцати человек, из них четыре пятых — женщины. Юные и в летах, те, кто ещё не познал мужчины, и те, кого дома ждут маленькие дети. Они вверили мне свои жизни и сейчас безропотно и не задумываясь выполнят любой приказ. Но приказ, вся его сила и мера — это только я. Мой долг — выполнение боевой задачи. Мой долг — сохранение личного состава. На каких весах взвесить эти две гири, легшие мне сейчас на душу?
— Группер, со мной!
Молодая, но очень толковая комгруппы, позывной Венера, с медкомплектом за плечом размашисто шагает рядом. Выход из обречённого здания, спасение — вот оно.
Взгляд в низкое, плачущее небо, вдох — выдох.
«Георгий-Победоносец, мой Святой Небесный покровитель, вразуми…»
Если бы у нас стояла задача отстоять здание и был бы хоть один шанс это сделать, я бы оставил всё подразделение внутри, до самого конца. Каждый перевязанный раненый — малая крупица в плюс к стойкости общей обороны, крошечное слагаемое общего успеха и возможной Победы, пусть не здесь и сейчас. Но ввиду полного отсутствия вооружения шансов нет никаких и наша задача — сакральная жертва за народ и Родину. А раз так…
— Отряд, слушай мою команду! Всем бойцам-женщинам: взять индивидуальные медицинские наборы. Задача: выдвижение в ППД, развёртывание по машинам эвакогруппы, наблюдение за обстановкой. В случае массового штурма — стандартная работа по тем раненым, которые будут снаружи. В здание не входить! При неудаче нашей обороны — всем переход на нелегальное положение, установление контактов с местными партизанскими отрядами, после прибытия войск Северного Брата — вхождение в их состав для выполнения медицинских обязанностей. Быстрее, бегом, бля!
Побледневшие девочки сразу всё поняли — молча мгновенно пакуются и притихшей стремительной стайкой вылетают следом за мной. Вообще здесь все и всё понимают очень быстро.
Крайние девушки — бойцы отряда, бесшумно растворились во дворах. Гиря сразу упала с души куда-то вниз, дышать стало гораздо легче. Вдох-выдох, поворот — и вот я снова в здании. Если сравнивать решимость человека с чем-то мощным, то не похоже, чтобы я чувствовал себя паровозом, несущимся по рельсам: скорее я ощущаю себя рельсом, прибитым к шпалам и готовым нести на себе любую тяжесть эшелонов. У меня нет варианта даже вперёд или назад, тем более — отступить и уйти: Всевышний милостью Своей просто отключил у меня функцию страха и включил функцию долга. Мне гораздо легче, чем людям вокруг меня. Мне гораздо тяжелее, чем им.
Я не спрашиваю ни о чём оставшуюся в медпункте мужскую часть подразделения. Тем более о том, «кто хочет остаться». Это не кино, где герои изъясняются в пафосных длинных диалогах. Здесь все говорят очень кратко и просто. «Чем ближе к смерти — тем чище люди…» Все, кто остался в медпункте, — мужчины, военнообязанные как медработники. Они ничем не хуже и не лучше тех, кто сейчас готовится принять мученическую смерть на всех этажах здания за наше общее дело. И самое главное — вход в здание на выход открыт. Любой желающий может быстро свинтить, пока не истекли два часа ультиматума. И все понимают, что будет, если не свинтит.
Так что я ничего не говорю никому — я прохожу в медпункт, сажусь в простенок между окнами, и молча смотрю, как толково, без лишних движений, работает наличный состав подразделения: измерение давления, раздача медикаментов, перевязка легко оцарапанных при штурме здания. Инстинкт самосохранения, самый базовый из человеческих, бьётся о стенки души — в закрытом здании, с единственным выходом, умирать не хочется очень сильно. Но гораздо сильнее, чем нежелание умирать, бьётся мысль: правильно ли я понял свой долг командира? Может, нужно было оставить девчат здесь?
Когда-то давно, в Великую Отечественную войну, первые два года нашей армии не хватало опыта проведения больших наступательных операций. Соответственно, каждая попытка организовать их заканчивалась окружением наших ударных сил, провалом операции, жертвами в сотни тысяч убитых, раненых и пленных. И когда наступал решающий момент перелома в войне — наше контрнаступление под Сталинградом, сложилась крайне драматическая обстановка в верхах. Отдельные механизированные корпуса должны были войти в прорыв и двигаться навстречу друг другу, чтобы замкнуть кольцо окружения. Однако ударные пехотные части не смогли до конца прорвать полевую оборону противника. И тогда командирам мехкорпусов поступил приказ Верховного главнокомандующего: идти в атаку и прорвать оборону. Они начали мешкать: оттягивать начало атаки в надежде, что пехота всё-таки пробьёт им дорогу. Раньше, до всего этого, я не понимал их. Теперь, когда я представил всю неизмеримую меру их ответственности: перед страной, перед своими людьми, перед самими собой, мне стало нехорошо. Им предстоял не только прорыв — им нужно было продвинуться на сотни километров по тылам мощнейшей армии мира всех времён и народов, успешно замкнуть окружение и удержать в кольце самую мощную вражескую группировку на фронте. В этих условиях начало выдвижения в не до конца проделанный прорыв грозило провалом наступления и проигрышем войны. Миллионы жизней легли на совесть каждого. Теперь я понимаю тех командиров гораздо лучше, нежели раньше…
Вдох-выдох. Ребята с той стороны, вы где? Мы ждём вас, идите, мы готовы! А вы?..
Они не пошли. Наш командир встретился с их командиром. И сказал спокойно и просто: «Идите. Когда убьёте всех, последние взорвут здание вместе с вами». И у них не хватило духа пойти. Как и много раз позже — под Карловкой и Семёновкой, под Спартаком и Логвиново. Каждый раз, когда нужно было идти в огонь именно «до конца» — на гарантированную, неизбежную, верную смерть, подрывая себя гранатами, закрывая грудью амбразуры, одному против десяти — у них не хватало духа и они не шли так, как надо. Понятное дело — это же не по жилым кварталам «Градами» лупить и не маленьких девочек насиловать…
Глава 7. Донецк. ОГА. В осаде
…На ту самую ночь, когда мы ждали штурма и неизбежной смерти, у меня в кармане лежал билет «Аэрофлота» — обратно, в безопасную уютную Москву, к привычной вольготной жизни, высокооплачиваемой работе. Друзья знали об этом и были удивлены, когда я никуда не полетел. Мог ли я улететь? Мог ли бросить свой отряд, своих людей, свою оборону и своё место в строю? Этот вопрос мне кажется странным и надуманным. «Что тебе толку в том, что ты обретёшь весь мир, а душу свою потеряешь?»
Группа «Мельница» в прекрасной песне «Дорога сна» поёт:
По дороге сна мимо мира людей
Что нам до Адама и Евы,
Что нам до того, как живёт земля…
Я хотел бы пояснить — мне, к счастью, всегда был чужд такой холодно-отстранённый взгляд на события, в которых мне довелось участвовать, тем более — на людей, ради которых доводилось идти на смерть. Главной движущей силой было сострадание к людям, своим бойцам и гражданскому населению. Многие «военные профессионалы» меня за это осуждали: «Юрич, вы непрофессионально рассуждаете, надо относиться хладнокровнее к происходящему». Бог вам всем судья — сами относитесь спокойно к геноциду собственного народа. Я, хвала Всевышнему, никогда такого «хладнокровия», более точно именуемого равнодушием, не понимал и понимать не собираюсь.
Из моего сострадания к нормальным людям — оставшимся верными Православию, русскому языку, обычаям наших предков и родной земле, проистекала и сейчас черпает силы пылкая ненависть к тем, кто пытает, мучает и убивает Людей — к нелюдям, хохломутантам, продавшимся Европе и Штатам за обещание «кружевных трусиков». Тем, кто продал Веру предков, будущее своих детей, право быть хозяевами своей земли за наркотический «чаёк», свободу скакать на майдане и право убивать русских. За свободу от совести, от ума и чести, за свободу для низменных пороков, греха и предательства. Для меня они — нелюди, кровожадные зомби, колдовством заокеанских некромантов поднятые из Ада, чтобы терзать и убивать нормальных людей. Они силой злого колдовства вырвались из преисподней, где их настоящее место, и долг каждого настоящего мужчины — помочь им поскорее вернуться туда. Сочувствие этим инфернальным сущностям — это безразличие к судьбе всех тех нормальных людей, кого они убивали, убивают и убьют. И в этом плане я тоже — «не профессионал». Я человек.
Начиналась эпопея обороны ОГА — эпопея постепенной очистки Донецка от эсбэушной, правосучьей и прочей нечисти, от морока хохломутанства на святой русской земле. Пока город был наполнен вражескими агентами, и ОГА походил на осаждённую крепость — в городе пропадали без вести наши активисты, вражеских полевых командиров — в том числе тех, кто нагло, прямо на камеру, убивал людей в Одессе, периодически ловили прямо под стенами нашей цитадели. Озверевшие от пролитой крови невинных, потерявшие всякий страх от своей безнаказанности, они приходили на рекогносцировку под самые наши стены, планируя предстоящее нападение, и имели наглость прямо среди толп митингующих в нашу поддержку, а то и гуляющих дончан рассуждать о том, что: «Сожгли колорадов в Одессе — теперь надо и здесь их палить!»