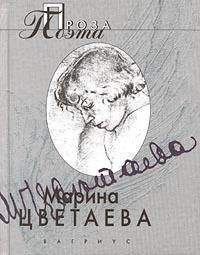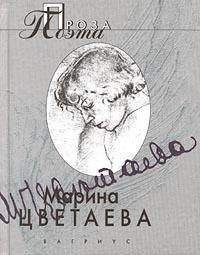— Вам слишком рано дают читать серьезные книги… — перебивал жених, чтобы не услышать, на кого похож.
— А такая книга, как вы, — не рано? Такие книги лучше не читать никогда.
— Папа, как тебе нравится Анатолий?
— Наш новый дворник?
— Нет, папа! Наш дворник — Антон, а это — студент, Тихонравов.
— А — а-а… Он, как будто, не особенно далекий? — (И, когда мы уже думали, что вопрос исчерпан.) И от него какой‑то странный запах…
И эта аттестация— в ответ на «petits soins»[37], которыми он окружил отца, на постоянные, в беседе, латинские и греческие цитаты, на весь труд по будущему состоянию зятя, состояние, которое отцу, по его простодушию и нашим с Асей годам и главное — складу, и в голову не могло прийти.
Годы шли, не много, но полные. Подымались на столько‑то наши именные орешники, поднимались на двери наши прошло- летние зарубки роста. Мы перешли в последние сужденные нам классы. И вдруг из Тарусы к нам в Песочное, с посыльным, письмо. Асе. Рука Толина. Открываем: посреди мелкого бисера почерка — жирная раздавленная гусеница.
— Дурак, — сказала Ася холодно.
— Автопортрет, — уточнила я.
Под гусеницей фраза: «Берегите себя для себя и для меня».
— Наглец. Он пишет, точно я уже в таком положении!
И тут же, одним махом, на обороте: «Возвращаю вам ваше имущество и извещаю, что у меня ничего вашего, ни от вас не осталось».
— Берегись, Ася! Он тебе эту гусеницу попомнит!
Гусеница (случайная, конечно) оказалась роковой, ибо она как бы жирным шрифтом подчеркнула Анатолию всю невозможность этого союза. Это был последний штрих и последняя черта. В ту же зиму Ася познакомилась на катке с Борисом Т., за которого вскоре вышла замуж.
Большое тире. 1921 год, весна. Ася только что вернулась из Феодосии, где застряла с 1917 года. Последний год варили мох. Худая, оборванная, но неизменно — живая и живучая.
— Марина, пойду служить в Музей.
— С ума сошла! Там теперь Анатолий — директором.
— Анатолий— директором?! И даже не женясь на нас? Ну и счастливец!
— Не только не женясь на нас, но женясь на самой обыкновенной, как надо, барышне.
— Как надо — барышне? Нынче же иду в Музей!
Возврат и рассказ:
— Прихожу. Сидит за папиным столом, не встает. — «Вы давно приехали?» — «Вчера». — «Что вам угодно?» — «Место в Музее». — «Свободных мест нет». Тогда я ему, очень кротко, но четко: «Может быть, для меня найдется? Вы все‑таки, Толя, подумайте». — «Подумаю, но — еслй что‑нибудь и найдется, то не…» — «Я и не претендую». И тут, Марина, входит жена, без стука, как к себе в комнату. Молоденькая, хорошенькая — куда нам даже тогда! — по — настоящему хорошенькая: куколка, с ноготками, с локотками, и в белом платье с воланами. Впорхнула, что‑то щебетнула и выпорхнула. Он нас даже не познакомил. Не говоря уже о том, что он мне не предложил сесть, и я все время, в каком‑то упоении происходящим, простояла.
Через неделю на машинке за директорской подписью извещение, что Ася принята сверхштатным помощником библиотекаря на жалование… но боюсь ошибиться, знаю только, что жалование было жалобное. Так, сверхштатным служащим в учрежденном отцом музее Ася прослужила десять лет, на девять с половиной пересидев директора Анатолия, которого неизвестно почему, но в спешном порядке попросили освободить директорское кресло. Но он в нем все‑таки посидел.
Ныне Анатолий стал писателем. Книги его выходят на прекрасной бумаге, с красным обрезом, в полотняных переплетах. Темы его книг— заграничные, метод писания— собирательный. Так он, даже не женясь на мне, стал писателем. Только вот — каким?
Сентябрь 1933
Герой труда. Записи о Валерии Брюсове
И с тайным восторгом гляжу я в лицо врагу.
Бальмонт
Стихи Брюсова я любила с 16 л<ет>по 17 л<ет>— страстной и краткой любовью. В Брюсове я ухитрилась любить самое небрюсовское, то, чего он был так до дна, дотла лишен — песню, песенное начало. Больше же стихов его — и эта любовь живет и поныне — его «Огненного Ангела», тогда — и в замысле и в исполнении, нынче только в замысле и в воспоминании, «Огненного Ангела» — в неосуществлении. Помню, однако, что уже тогда, 16–ти лет, меня хлестнуло на какой‑то из патетических страниц слово «интересный», рыночное и расценочное, немыслимое ни в веке Ренаты, ни в повествовании об Ангеле, ни в общей патетике вещи. Мастер — и такой промах! Да, ибо мастерство — не все. Нужен слух. Его не было у Брюсова.
Антимузыкальность Брюсова, вопреки внешней (местной) музыкальности целого ряда стихотворений — антимузыкальность сущности, сушь, отсутствие реки. Вспоминаю слово недавно скончавшейся своеобразной и глубокой поэтессы Аделаиды Герцык о Максе Волошине и мне, тогда 17–летней: «В вас больше реки, чем берегов, в нем — берегов, чем реки». Брюсов же был сплошным берегом, гранитным. Сопровождающий и сдерживающий (в пределах города) городской береговой гранит — вот взаимоотношение Брюсова с современной ему живой рекой поэзии. За — городом набережная теряет власть. Так, не предотвратил ни окраинного Маяковского, ни ржаного Есенина, ни героя своей последней и жесточайшей ревности — небывалого, как первый день творения, Пастернака. Все же, что город, кабинет, цех, если не иссякло от него, то приняло его очертания.
Вслушиваясь в неумолчное слово Гете: «In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister»[38] — слово, направленное на преодоление в себе безмерности (колыбели всякого творчества и, именно как колыбель, преодоленной быть долженствующей), нужно сказать, что в этом смысле Брюсову нечего было преодолевать: он родился ограниченным. Безграничность преодолевается границей, преодолеть же в себе границы никому не дано. Брюсов был бы мастером в гетевском смысле слова только, если бы преодолел в себе природную границу, раздвинул, а может быть, и — разбил себя. Брюсов, в ответ на Моисеев жезл, немотствовал. Он остался invulnèrable[39] (во всем объеме непереводимо), вне лирического потока. Но, утверждаю, матерьялом его был гранит, а не картон.
(Гетевское слово — охрана от демонов: может быть, самой крайней, тайной, безнадежной страсти Брюсова.)
Брюсов был римлянином. Только в таком подходе — разгадка и справедливость. За его спиной, явственно, Капитолий, а не Олимп. Боги его никогда не вмешивались в Троянские бои, — вспомните раненую Афродиту! молящую Фетиду! омраченного — неминуемой гибелью Ахилла — Зевеса. Брюсовские боги высились и восседали, окончательно покончившие с заоблачьем и осевшие на земле боги. Но, настаиваю, матерьялом их был мрамор, а не гипс.
Не хочу лжи о Брюсове, не хочу посмертного лягания Брюсова. Брюсов не был quantite negligeable[40], еще меньше gualite[41]. По рожденью русский целиком, он являет собою загадку. Такого второго случая в русской лирике не было: застегнутый наглухо поэт. Тютчев? Но это — в жизни: в черновике, в подстрочнике лиры. Брюсов же именно в творении своем был застегнут (а не забит ли?) наглухо, забронирован без возможности прорыва. Какой же это росс? И какой же это поэт? Русский — достоверно, поэт — достоверно тоже: в пределах воли человеческой — поэт. Поэт предела. Есть такие дома, первые, когда подъезжаешь к большому городу: многоокие (многооконные), но — слепые какие‑то, с полной немыслимостью в них жизни. Казенные (и, уже лирически), казненные. Таким домом мне мерещится творчество Брюсова. А в высших его достижениях гранитным коридором, выход которого — тупик.
Брюсов: поэт входов без выходов.
Чтобы не звучало голословно, читатель, проверь: хотелось ли тебе хоть раз продлить стихотворение Брюсова? (Гетевское: «Verweile doch! du bist so schon!»[42]) Было ли у тебя хоть раз чувство оборванности (вел и бросил!), разверзлась ли хоть раз на неучтимость сердечного обмирания за строками — страна, куда стихи только ход: в самой дальней дали — на самую дальную даль — распахнутые врата. Душу, как Музыка, срывал тебе Брюсов? («Всё? Уже?») Душа, как после музыки, взмаливалась к Брюсову: «Уже? Еще!» Выходил ли ты хоть раз из этой встречи — неудовлетворенным?
Нет, Брюсов удовлетворяет вполне, дает все и ровно то, что обещал, из его книги выходишь, как из выгодной сделки (показательно: с другими поэтами — книга ушла, ты вслед, с Брюсовым: ты ушел, книга — осталась) — и, если чего‑нибудь не хватает, то именно — неудовлетворенности.
Под каждым стихотворением Брюсова невидимо проставленное «конец». Брюсов, для цельности, должен был бы проставлять его и графически (типографически).