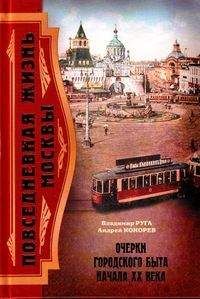«Москвичи-старожилы помнят развалившиеся ряды “Соляного двора” на Солянке. Четыре года тому назад, по инициативе Н. В. Щенкова, было решено срыть “солянскую клоаку”.
Теперь здесь иная картина.
Высятся огромные небоскребы, занявшие целый квартал. Пока закончено отделкой одно лишь здание, с роскошными магазинами внизу и рядом лазаретов в верхних этажах. Во дворе для раненых раскинута белая походная палатка, небольшие газоны с пышными клумбами ярких роз. Греются на солнце раненые герои. Из открытых окон несется солдатская песня».
В заключение рассказа о Москве «госпитальной» отметим, что у созданной во время Первой мировой войны системы эвакуации раненых с поля боя и размещения их на лечение в «общественных» лазаретах оказался такой запас прочности, что она устояла под ударами двух революций. Свидетельствами служат рассказы современников тех событий. Вот, например, что записал в дневнике весной 1917 года В. А. Амфитеатров-Кадашев:
«Изменение настроения в госпитале весьма приметное. Расцвел фельдшер Пчелкин. Он уже не просто сукин сын, а председатель комитета; взятки поэтому берет вдвое. У докторов вид сконфуженный, никаких признаков неуважения к ним пока не заметно: машина еще действует. Но вот-вот сорвется! Это чувствуется по какой-то внутренней хмурости, какому-то враждебному закрытию душевному, ощущаемому в каждом солдате».
Тем не менее для офицера-фронтовика С. Е. Хитуна, попавшего в московский госпиталь после большевистского переворота, пребывание в лазарете ничем не было омрачено:
«Вскоре мой приятель, батальонный доктор Р., выдал мне медицинское свидетельство, которое объявляло: “Подпоручик Хитун подлежит эвакуации в тыловые госпиталя для лечения острой формы нефрита”.
Конечно, я был здоров как бык. Ел за троих, “жал” двухпудовку одной рукой одиннадцать раз. Но были причины, оправдывавшие мою псевдоболезнь. Фронт разваливался. Солдаты вырешили вопрос войны “ногами” – дезертировали тысячами. Авторитет офицеров был на “нуле”. Новые правители – большевики огласили декрет: “Войну не продолжать, но мир не подписывать”».
Все это оправдывало мою симуляцию болезни. Итак, я был эвакуирован с Фронта в санитарном поезде в Москву и помещен в госпиталь при Купеческом клубе.
В громадной палате, бывшей танцевальным залом Клуба, в среднем ряду, состоящем из двадцати кроватей, была и моя кровать. В первые дни я проводил большую часть времени, лежа в постели, наблюдая происходящее вокруг.
В то время как медицинский персонал – доктора, сестры милосердия, фельдшера – продолжали рутину своих обязанностей днем и ночью, административная часть была в периоде перехода от старого управления к новому. Контроль над госпиталем делился между многими комитетами, выбранными от докторов, сестер милосердия, канцелярских служащих, раненых, санитаров, поваров и судомоек. В приемной комнате дежурный член комитета дал мне мою именную карточку, которую надо было повесить на спинку кровати. Он сказал, что если мне нужна медицинская помощь, то обратиться к старшей в палате сестре милосердия.
Я пользовался абсолютной свободой: уходил и приходил когда хотел, ел вкусно и досыта, в то время как в городе население охотилось за каждым куском хлеба, и не всегда успешно. Никто не проверял ни мою болезнь, ни ход, ни степень ее.
Среди раненых было несколько молодых офицеров с ранениями в спину и ниже, в икры, и один даже с раздробленной пяткой. Обыкновенно такие ранения бывают при отступлениях. Но в данном случае эти офицеры были подстрелены своими при наступлении на немцев. В августе Керенскому удалось поднять своими речами дух армии и уговорить (офицеры стали называть Керенского с горечью – Главноуговаривающий вместо Главнокомандующий) их на осеннее наступление.
Послушные офицеры повели свои части в атаку – только для того, чтобы быть подстреленными своими же солдатами, недовольными приказом о наступлении. (…)
На Рождество в главном зале Клуба силами госпитального персонала была представлена разнообразная музыкальная программа, внесшая праздничную атмосферу и сильно подбодрившая больных. Праздники соблюдались, как и прежде, с той только разницей, что рождественские подарки всем раненым от Клуба, непременные в предыдущие годы, розданы не были. Оставшиеся в живых члены-покровители были разорены или находились в заключении».
На пороге стоял 1918 год.
Что вы, мама?
Белая, белая, как на гробе глазет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»
В. В. Маяковский
Война – это не только сообщения о взятых городах, захваченных трофеях и пленных. Победным реляциям обязательно сопутствуют данные о потерях: числе раненых и убитых в сражениях. Для одних людей эти цифры так и остаются чем-то абстрактным, для других же оборачиваются черной вестью о смерти близкого человека.
По-разному печальные известия приходили в дома москвичей. Кому-то о гибели родственника рассказывали раненые, доставленные в Москву, и только потом, много позже, поступало официальное извещение. А могло и не поступить, если выяснялось, что «убитый» жив и находится в плену. Кому-то о погибшем сообщали практически немедленно, как это было с актрисой театра Корша г-жой Ягелло. Она получила телеграмму о смерти брата прямо на сцене, но нашла в себе мужество доиграть спектакль.
Но, пожалуй, самый удивительный случай описан Вячеславом Ходасевичем. В его мемуарах упомянут московский профессор-патологоанатом М., старший сын которого воевал на фронте. Однажды профессор разбудил домашних среди ночи и объявил, что во сне увидел гибель сына. Наутро, не слушая никаких уговоров, М. купил гроб и выехал в полк, где служил его сын. Добравшись до места, профессор узнал, что прапорщик М. был убит как раз в ту самую ночь, когда отцу приснился страшный сон.
Вот так вместе с войной в повседневную жизнь Москвы вошло и такое явление, как военные похороны. На московских кладбищах находили последний приют воины, чьи останки родным удавалось перевезти из районов боевых действий. В Москве также хоронили офицеров и солдат, скончавшихся от ран в госпиталях города.
Первые похороны москвича, павшего в бою, состоялись 14 августа 1914 года. Им был двадцатичетырехлетний прапорщик Сергей Колокольцев, сын домовладельца Н. А. Колокольцева. Кроме родных и знакомых, на Александровском вокзале гроб встречали московский комендант генерал Т. Г. Горковенко, помощник градоначальника В. Ф. Модль и почетный караул – полурота запасного пехотного батальона. Под военный оркестр тело прапорщика Колокольцева было перевезено в церковь на Ваганьковском кладбище, где были отслужены заупокойная литургия и отпевание. В могилу гроб опустили под троекратный ружейный залп.
Спустя неделю с военными почестями похоронили рядового Кравца – первую жертву войны из числа московских евреев. Он был ранен в Восточной Пруссии и умер в госпитале. По сообщениям газет, на похоронах «присутствовала почти вся еврейская колония, проводившая тело до кладбища».
А на следующий день, 22 августа, на траурную церемонию собрался уже высший свет во главе с великой княгиней Елизаветой Федоровной и официальными лицами: главноначальствующим генералом Адриановым, губернатором графом Н. Л. Муравьевым, губернским предводителем дворянства А. Д. Самариным и князем Н. С. Щербатовым. В церкви Симеона Столпника на Поварской улице прощались сразу с двумя представителями московской аристократии: корнетом М. А. Катковым и унтер-офицером А. А. Катковым[19] – сыновьями предводителя дворянства Подольского уезда. Маленький храм не мог вместить всех желающих, поэтому толпой были запружены церковный двор и значительная часть Поварской.
После панихиды гробы установили на траурные колесницы и возложили венки. Почетный караул составили взвод кавалерии и рота пехоты. Духовенство, участвовавшее в процессии, возглавлял епископ Трифон.
Похороны братьев Катковых
Под колокольный звон и похоронный марш в исполнении оркестра Александровского военного училища процессия дошла до Лицея в память цесаревича Николая[20], выпускниками которого были оба брата. Возле лицея была сделана остановка и отслужена лития. После этого гробы для захоронения повезли через Серпуховскую заставу в родовое имение Катковых – село Знаменское Подольского уезда.
Судя по описанию, погребение братьев Катковых проходило, что называется, «по высшему разряду». Чтобы современному читателю лучше понять смысл этого выражения, вернемся в довоенные времена и рассмотрим такую сторону жизни Москвы конца XIX – начала XX века, как похороны.
Начнем с кладбищ. Отвод земли под них и обустройство территории осуществлялись городскими властями. Во всем остальном кладбища находились в заведовании духовенства различных конфессий. Плата, которую москвичи вносили за погребения, поступала в самостоятельные фонды кладбищ, откуда администрация могла их расходовать на благоустройство.