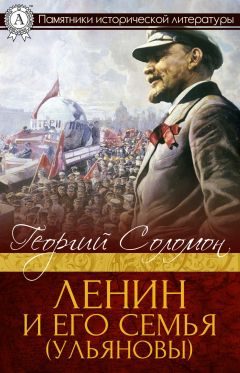На следующий день по пути произошла маленькая, горькая для меня сцена. Поезд остановился на вокзале в Гамбурге, где была пересадка. Не знаю уж почему, старший из сопровождавших нас жандармов обратился к содействию солдата, дежурного по станции от имени совета солдат и матросов. Я увидел знакомое по прежним сношениям лицо. Но он только взглянул на меня. По его глазам я видел, что он великолепно узнал меня, но он тотчас же отвернулся и услужливо и заискивающе обратился к жандармскому вахмистру…
Поздно вечером, 17-го января, на третий день ареста, голодные и измученные, мы были в Берлин. Жандармы повезли нас на Вильгельмштрассе, в Мин ин. дел. В вестибюле мы встретились с только что привезенной с нашим поездом из Гамбурга Е. К. Нейдекер, арестованной на моей консульской квартире, которую они вместе с Коноваловым оставались хранить… Я снова пытался протестовать… Дежурный чиновник, расписавшись в получении арестантов, при нас же позвонил по телефону тайному советнику Надольному. Я стоял у аппарата и, по странной случайности, слышал весь разговор. Чиновник сообщил, что нас доставили в министерство, и спрашивал, что с нами делать?
– Отправьте их под надежной охраной в Полицейпрезидиум на Александерплац, – услыхал я резкий голос Надольного.
– Но господин консул протестует против своего ареста, указывая на свою дипломатическую неприкосновенность… Он требует, чтобы ему разрешили поместиться в гостинице, он даст подписку о невыезде.
– Я сказал, – ответил Надольный резко, – отправьте его в полицейпрезидиум… Протесты!.. Кончилось их время, слава Богу!..
Был вызван военный караул. Молодому лейтенанту, почти мальчику, было поручено доставить нас в тюрьму. Он взял с собой на помощь еще одного солдата. Нас усадили в автомобиль и повезли по мрачным улицам Берлина, только что пережившего новый путч, во время которого были убиты Карл Либкнехт и Роза Люксембург, в Полицейпрезидиум. Юноша лейтенант был настроен воинственно, он все время держал в руках револьвер, направленный на меня, и поторопился показать нам свою власть, когда я обратился к жене с каким то вопросом.
– Замолчать! – свирепо крикнул этот юноша. – Не сметь разговаривать!.. Еще одно слово и… – он многозначительно указал на свой револьвер.
Мы ехали молча. А кругом в морозном воздухе время от времени раздавались еще выстрелы, то одиночные, то небольшими залпами, свидетельствуя о том, что путч не был еще окончательно ликвидирован…
Уже в канцелярии Полицейпрезидиума, на вопрос чиновника, за что я арестован, я снова заявил протест, на который в виде ответа последовало недоуменное пожимание плечами.
После некоторых формальностей нас развели по камерам. Меня не обыскивали, но мою жену надсмотрщица заставила раздеться до нага в холодном коридоре и тщательно обшарила и ее и ее пожитки… В тюрьме Полицейпрезидиума тоже все было запущено, было холодно, грязно… Не раздеваясь, я повалился на койку, дрожа от холода и от смертельной усталости… Рано утром я потребовал, чтобы меня свели в канцелярию, где я снова написал протест и потребовал объяснения причины моего ареста. Смотритель, ознакомившись по моим словам с моим делом, стал меня утешать, говоря, что это должно быть, просто недоразумение, которое немедленно рассеется. Он тут же позвонил в мин. ин. дел и сообщил о моем протесте и о моем болезненном состоянии. Ему ответили, что чиновник, которому поручено расследование дела, уже выехал в Полицейпрезидиум и скоро объяснит мне все.
И действительно, скоро меня снова позвали в канцелярию в особый кабинет, где я увидел маленького чиновника министерства ин. дел, приходившего ко мне иногда в посольство с поручениями от Надольного, фон Треймана, а рядом с ним еще одного господина, как оказалось, полицейского комиссара по уголовным делам. Я сразу же потребовал объяснения причины такого явного нарушения моей неприкосновенности. Но, разумеется, я никакого удовлетворительного ответа не получил. И затем начался допрос.
– Вы обвиняетесь, – начал фон Трейман, – в том, что, находясь на дипломатическом посту и пользуясь экстерриториальностью, занимались пропагандой, тратя на это имевшиеся в вашем распоряжении средства. Это во первых. А во вторых, в том, что, находясь в Гамбурге и в Хадерслебене, куда вы выехали без разрешения, вы сделали попытку нелегально уехать из Германии. Угодно вам будет отвечать на эти обвинения.
Я изъявил полное согласие дать объяснения.
– Прежде всего, – сказал чиновник, – не признаетесь ли вы чистосердечно, сколько точно вы израсходовали денег на пропаганду… Имейте в виду, что чистосердечное указание смягчить вашу участь, что мы, в сущности, хорошо знаем ту сумму, которую вы употребили на преступные цели. Но нам нужно ваше чистосердечное признание…
– Прежде всего, – ответил я, – я категорически отрицаю взводимое на меня обвинение, что и прошу записать в протокол: никакой пропагандой я не занимался, почему и не мог тратить на нее денег.
– А, хорошо, хорошо, – с хитрой улыбкой опытного следователя ответил фон Трейман. – В таком случае, не будете ли вы любезны точно указать, какую сумму вы израсходовали в Гамбурге?
– Точно я не могу указать, – ответил я, – у меня нет при себе отчета, он в моих делах в Гамбурге, но приблизительно я истратил свыше 12 миллионов марок…
– Свыше 12 миллионов марок? – переспросил фон Трейман, не скрывая своего удовольствия по поводу так ловко выуженного у меня признания. – А вот как, вот как, очень хорошо… Господин комиссар, не угодно ли вам записать это признание господина консула… Да, так… А на какие именно, точно, цели вы израсходовали в один месяц вашего пребывания в Гамбурге столь колоссальную сумму денег?
– Если вопрос этот вас интересует, вам нужно взять мои бухгалтерские книги, которые остались в Гамбурге. Или, еще лучше, обратитесь в банк «Дисконто Гезельшафт», где у меня текущий счет и где я хранил и храню все отпущенные мне суммы и через который я производил платежи по предъявленным мне счетам и требованиям.
Лицо у моего следователя вытянулось. – А, – разочарованно протянул он. – Но на что вы тратили деньги?
Я объяснил: на уплату пароходству и страховым обществам. Он стал наседать на меня и сказал, что ему хорошо известно, что я тратил и на другие цели. И он вытащил из досье номер газеты, в которой было отмечено мое пожертвование 1.000 марок в пользу семей убитых во время революции (В качестве представителя советского правительства, я, действительно, пожертвовал через редакции одной газеты в Гамбурге, собиравшей на венки жертвам революции, 1.000 марок, оговорив в препроводительном письме, что вношу эту сумму вместо пожертвования на венок, как пособие вдовам и детям убитых во время гамбургской революции. – Автор.), и предъявил его мне. Я, конечно, подтвердил.
– Так вот, это и есть ваше преступление, – сказал фон Трейман.
– Так значит, все лица, которые внесли тогда те или иные пожертвования, тоже привлечены к ответственности? – спросил я.
Он смутился, сказав, что это видно будет. Полицейский комиссар пришел ему на выручку и, отозвав его к окну, стал ему что то доказывать и в чем то убеждать его…
Не менее слабо было и обвинение меня в желании бежать из страны, правительство которой усиленно настаивало на моем отъезде из нее. Я тут же попросил разрешения мне обратиться к помощи адвоката. Фон Трейман резко отказал мне.
Из этого допроса так ничего и не вышло (Отмечу в виде курьеза, что фон – Тройман предъявил ко мне обвинение в том, что, находясь в Хадерслебене, я оттуда руководил революционным движением в Германии и принимал даже участие в последнем путче в Берлине перед самым своим арестом. Это же обвинение предъявил мне и допрашивавший меня впоследствии главный прокурор, доктор Вейс, повторил, как курьез, с улыбкой заметив, что не требует от меня никакого ответа на этот пункт.
Впоследствии мне стало известным, что за мной следили в Гамбурге наша прислуга и ее возлюбленный, какой – то унтер – офицер, поселившийся в доме против консульства. Эти соглядатаи и наплели всяких нелепостей и небылиц на меня, приписывая мне действия, к которым я и хронологически и по условиям места не мог иметь никакого отношения. – Автор.) Я внес также протест по поводу моей абсолютно ни в чем неповинной жены и потребовал свидания с ней. Снова частный разговор с комиссаром, и мне объявили, что нам разрешено поместиться в одной камер.
Меня увели и через некоторое время отвели в обширную камеру на 24 человека, где я нашел уже и свою жену и наши вещи. Таким образом, нас и держали вместе во все время этого почти двухмесячного тюремного сидения.
Вскоре меня снова вызвали на допрос, причем тот же фон Трейман сказал мне, что моя жена и я арестованы в качестве заложников за каких то немецких граждан, арестованных советским правительством в Риге, и что нас постигнет равная им участь… И началось безрадостное прозябание в загрязненной, запущенной тюрьме, полной насекомых, в которой обыкновенно держат воришек и проституток. В то время Германия находилась в ужасающих экономических условиях, а потому и немудрено, что и тюрьмы были в самом плохом состоянии: пища была отвратительна (мы питались на свой счет и нам приносили обед из какого то плохенького ресторана), да и не топили почти совсем, хотя стояла на редкость суровая зима: лишь два раза в день, в шесть часов утра и в шесть вечера пускали по трубам пар на полчаса и вслед затем все выстывало.