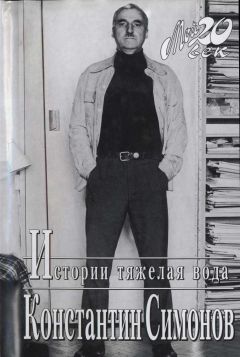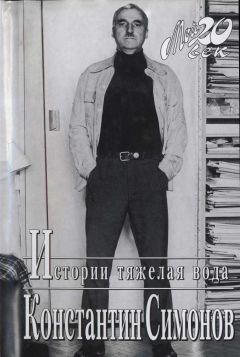Говорить об этом Казакевичу выпало на мою долю. Выслушав мой рассказ, Казакевич только скрипнул зубами. Оказалось, Сталин угадал совершенно точно. В романе Казакевича первоначально был выведен не член Военного совета, а командующий фронтом. Но в обстановке, которая сложилась в то время вокруг Жукова, опубликовать эту линию романа в первоначально задуманном виде Казакевичу так и не удалось. В конце концов он вынужден был отступить и назвать Сизокрылова членом Военного совета, хотя за сохранившимися в романе поступками и разговорами Сизокрылова продолжала оставаться фигура командующего фронтом. «Если бы раньше!» — только и мог с горечью сказать в ответ Казакевич. Роман уже вышел несколькими изданиями, и что‑нибудь менять в нем было теперь поздно.
Обо всем этом я вспомнил, когда после XIX съезда вдруг оказался рядом с Жуковым за столом во время ужина, который ЦК давал присутствовавшим на съезде иностранным делегациям. И не только вспомнил, но и счел себя вправе рассказать Жукову. Я почувствовал сквозь не изменившую ему сдержанность, что он в тот вечер был в очень хорошем настроении. Думаю, что избрание в ЦК было для него неожиданностью, тем сильней, наверное, было впечатление, которое это произвело на него. Однако чувство собственного достоинства не позволило ему ни разу ни словом коснуться этой, несомненно, больше всего волновавшей его темы за те несколько часов, что мы просидели рядом.
Разговор шел о разных других вещах, в том числе и о моей тогда только что вышедшей и, как я теперь понимаю, не слишком удавшейся мне с художественной стороны книге «Товарищи по оружию». Но как раз этой художественной стороны Жуков в разговоре со мной не касался. Появление «Товарищей по оружию», как я понял из разговора, обрадовало его тем, что в литературе появилась первая книга, рассказывающая о дорогих его сердцу военного человека халхин — гольских событиях.
Сказав мне, что фактическая сторона дела изложена мной довольно точно, Жуков сделал мне несколько замечаний, касавшихся главным образом тех или иных не нашедших себе места в романе событий. Помню, он при этом посетовал, что, когда мы встречались с ним в 1950 году, в начале моей работы, все обошлось двумя разговорами.
— К сожалению, многое так и не успел вам рассказать, — заметил он, адресуя упрек скорей себе, чем мне, с деликатностью, которая уживалась в нем с прямотой суждений.
Более деликатных вопросов он вообще не коснулся. Дело в том, что в романе, хотя и без фамилии, был выведен командующий нашей группой войск на Халхин — Голе, за фигурой которого проглядывала личность Жукова — прототип этой фигуры.
Публикуя роман, я встретился с колебаниями в печатавшей его редакции. Некоторым из моих работавших там коллег, без труда угадавшим, кто стоит за этой фигурой, казалось, что при общей положительной характеристике мне следовало наделить ее и некоторыми отрицательными чертами. На них повлияло критическое отношение, сложившееся в те годы к Жукову, и они опасались, как пройдет соответствующее место романа через цензуру. Опасения, впрочем, оказались напрасными. Роман благополучно прошел цензуру. Мое положение оказалось много легче, чем положение Казакевича. Халхин — Гол был далеко, а взятие Берлина — у всех на памяти, не говоря уже о разнице в масштабах этих событий.
Еще давно, сразу после войны, задумывая свой роман, я с самого начала не собирался выводить в нем под собственными именами ни Жукова, ни других исторических лиц, исходя из принципиального взгляда, что, когда речь идет о живых людях, этого вообще не следует делать в художественном повествовании; тем оно и отличается от документального. Однако, признаться, в тот вечер меня по — человечески беспокоило, как отнесется Жуков к отсутствию в романе его имени, не сочтет ли он это в сложившихся вокруг него обстоятельствах признаком моей робости или результатом привходящих соображений. И я был рад, что, не касаясь этой щепетильной темы, он говорил о романе с сочувствием, видимо, правильно поняв меня.
В 1955 году я дважды был у Жукова в Министерстве обороны. Первый раз, когда он был еще заместителем министра, а во второй — когда его уже назначили министром.
Первая встреча была связана с судьбой одного армейского политработника, которого и Жуков, и я хорошо знали еще по Халхин- Голу. Достойно пройдя через всю Великую Отечественную войну, он в 1950 году вопреки своему желанию продолжать службу в армии был демобилизован якобы по болезни, а на самом деле по обстоятельствам, далеким от элементарной справедливости. Вопрос был непростой и вдобавок находился вне прямой компетенции Жукова. Сразу же без обиняков объяснив мне это, Жуков сказал, что все зависящее от него сделает, хотя поручиться за удачу не может.
Вспомнив в связи с этим разговором Халхин — Гол, он, усмехнувшись, сказал мне, что все же я, пожалуй, переборщил в своей книге, заменив в ней вымышленными не только имена живых, но и мертвых.
«Живые — ладно, так и быть, это уже дело ваше, — сказал он, — но мертвые‑то? С ними‑то уж, кажется, все ясно! Почему не назвали своим именем хотя бы такого героя Баин — Цагана, как комбриг Яковлев, и заменили его каким‑то Сарычевым, или почему не вывели покойного Ремизова? Это же были действительно герои! Почему у вас нет хотя бы этих имен?»
Главным в его словах и в чувстве, стоявшем за ними, была забота о своих погибших соратниках по Халхин — Голу. Но в той иронии, с которой он в этот раз заговорил со мной, я почувствовал и другое: где‑то в глубине души ему все же хотелось, чтобы в книге были прямо названы и имена живых. Несколько лет назад он не думал об этом, а сейчас, как мне показалось, подумал, хотя и не сказал мне прямо.
Вторая встреча в том же году была связана с начатой мною подготовительной работой к роману «Живые и мертвые». Я попросил у Жукова, чтобы мне помогли познакомиться с некоторыми материалами начального периода войны. Он сказал, что помощь будет оказана, и адресовал меня в Военно — научное управление Генерального штаба. Потом, помолчав, добавил, что, наверное, мне было бы полезно посмотреть на начало войны не только нашими глазами, но и глазами противника — это всегда полезно для выяснения истины.
Вызвав адъютанта и коротко приказав ему: «Принесите Гальдера», он объяснил мне, что хочет дать мне прочесть обширный служебный дневник, который вел в 1941–1942 годах тогдашний начальник германского Генерального штаба генерал — полковник Гальдер.
Когда через несколько минут ему на стол положили восемь толстых тетрадей дневника Гальдера, он похлопал по ним рукой и сказал, что, на его взгляд, среди всех немецких документов, которые он знает, это, пожалуй, наиболее серьезное и объективное свидетельство.
— Чтение не всегда для нашего брата приятное, но необходимое, в особенности для анализа наших собственных ошибок и просчетов, их причин и следствий.
Он заговорил на тему, которая, как и во время нашего разговора в 1950 году, продолжала его занимать, — о необходимости объективной оценки сил и возможностей противника, идет ли речь об истории или о сегодняшнем и завтрашнем дне. К сожалению, я не записал этого разговора и не могу привести его в подробностях, не рискуя нагородить отсебятины. Но в связи с ним мне кажется уместным привести именно здесь то, что Жуков говорил на эту же тему впоследствии, в беседах, содержание которых я записал. Вот некоторые из этих записей.
«Надо будет наконец посмотреть правде в глаза и, не стесняясь, сказать о том, как оно было на самом деле. Надо оценить по достоинству немецкую армию, с которой нам пришлось столкнуться с первых дней войны. Мы же не перед дурачками отступали по тысяче километров, а перед сильнейшей армией мира. Надо ясно сказать, что немецкая армия к началу войны была лучше нашей армии подготовлена, выучена, вооружена, психологически более готова к войне, втянута в нее. Она имела опыт войны, и притом войны победоносной. Это играет огромную роль. Надо также признать, что немецкий Генеральный штаб и вообще немецкие штабы тогда лучше работали, чем наш Генеральный штаб и вообще наши штабы, немецкие командующие в тот период лучше и глубже думали, чем наши командующие. Мы учились в ходе войны, и выучились, и стали бить немцев, но это был длительный процесс. И начался этот процесс с того, что на стороне немцев было преимущество во всех отношениях.
У нас стесняются писать о неустойчивости наших войск в начальном периоде войны. А войска бывали неустойчивыми и не только отступали, но и бежали, и впадали в панику. В нежелании признать это сказывается тенденция: дескать, народ не виноват, виновато только начальство. В общей форме это верно. В итоге это действительно так. Но, говоря конкретно, в начале войны мы плохо воевали не только наверху, но и внизу. Не секрет, что у нас рядом воевали дивизии, из которых одна дралась хорошо, стойко, а соседняя с ней — бежала, испытав на себе такой же самый удар противника. Были разные командиры, разные дивизии, разные меры стойкости.