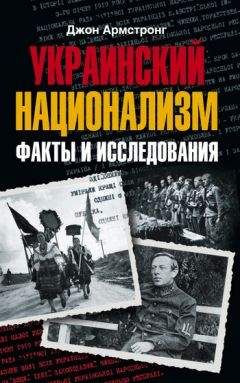Вряд ли это были истинные причины ареста Багазия, произведенного в начале февраля 1942 года (по-видимому, указанные в сноске 48. – Примеч. пер). Очевидно, германским должностным лицом, ответственным за падение Багазия, был генерал-комиссар Магуниа, один из ближайших помощников Коха среди должностных лиц рейхскомиссариата. Тот работал, конечно, в тесной координации с СП; обвинения против Багазия в полицейском сообщении крутятся исключительно вокруг его националистических действий[295]. Например, начальник отдела религиозных конфессий, как утверждается, угрожал русофилу епископу Киева Пантелеймону. Другое обвинение касалось «незаконного использования немецкой собственности», но особое значение имела, похоже, продажа им нефтепродуктов (вероятно, советского происхождения, конфискованных немцами) с целью помочь националистическому делу. Ему предъявили обвинение как лидеру подпольной ОУН-М, и было объявлено, с очевидной достоверностью, что множество организаций, контролируемых националистами, работали под его руководством. Видимо, самым тяжелым обвинением в глазах немецких чинов было, однако, то, что он пытался обеспечить контроль над украинской полицией. Как был выше указано, ОУН-М действительно контролировала основную часть украинской полиции в Киеве, но Багазий едва ли был лично ответственен за это. В целом мотивы снятия Багазия были такими же, какие преобладали всюду в рейхскомиссариате при разгоне националистических групп. Эта акция целиком укладывалась в политику Эриха Коха; он защищал ее от критики Розенберга и продемонстрировал собственную самонадеянность и тупость, добавив несколько несуразных обвинений к тем, что были выдвинуты в докладе СП.[296]
Репрессии против националистических сил в Киеве коснулись не только Багазия. Аресты были нацелены прежде всего на две группы: еще действовавших литературных лидеров примыкавшей к ОУН-М «Лиги украинских писателей» во главе с Оленой Телигой и молодым закарпатскоукраинским автором Иваном Ирлявским и Сечь, которую возглавлял молодой восточноукраинский журналист Иван Кошык, также член ОУН-М[297]. В общем было казнено (а это, как правило, происходило вскоре после ареста) около сорока человек[298], большинство которых являлись студентами-медиками, входившими в Сечь[299]. Помимо этого несколько основных национальных организаций Киева были вынуждены прекратить свою деятельность, включая Украинский национальный совет. Даже «Просвита» подпала под подозрение и была закрыта на некоторое время.[300]
Эти аресты не пресекли попыток развернуть национализм в Киеве. Подпольная ОУН-М (как и остатки конспиративной группы ОУН-Б) делала все, что могла, чтобы стимулировать националистические настроения. Да и в городской администрации отнюдь не было произведено резких изменений, как это произошло с редакцией газеты. Немцы, вероятно, не слишком стремились закрыть все отдушины для выхода украинских националистических настроений. Розенберг, несмотря на свое небольшое влияние, в этом отношении проявлял определенную сдержанность, да и сам Кох отрицал, что он антиукраинец[301]. Несомненно, в своем презрении ко всем славянам он не делал различий между украинцами и русскими; его благожелательное отношение к русофильским элементам в журналистике, возможно, было случайным или, по крайней мере, являлась попыткой установить управляемый немцами баланс между группировками.
Снижение влияния ОУН-М было неожиданным и довольно длительным, поскольку репрессии против ее групп продолжались по всему рейхскомиссариату. Кроме того, и это будет подробно освещено дальше, во многих местах появились сильные украинские националистические группы, оппозиционно настроенные в отношении оуновской идеологии; эти группы вели борьбу за развитие национализма, препятствуя таким образом росту влияния ОУН. В других районах сведения о подавлении киевской группы – разгоне Национального совета, похоже, произвели особенно сильное впечатление, заставив там осторожничать и воздерживаться от усилий по созданию националистических организаций. Вследствие этих событий, после февраля 1942 года работа двух ОУН составляла только относительно малую часть общего потока националистических и антинационалистических сил, которые следует рассматривать скорее в их географическом, социальном и идеологическом контексте, чем в порядке общего повествования.
Чтобы понять развитие национализма в течение остальных двадцати месяцев германской оккупации Восточной Украины, необходимо уделить некоторое внимание влиянию германской политики на аспекты жизни, не связанные напрямую с националистическими настроениями. Множество томов крайне неприятной для чтения литературы можно было бы посвятить тем несчастьям, которые причинили многострадальным народам Советского Союза слепые действия германских правителей. Здесь предпринята попытка дать лишь чрезвычайно краткое описание четырех непродуманных аспектов политики, с помощью которой было сделано все, чтобы разрушить жизнь людей в оккупированных районах, и которая, в частности, косвенно повлияла на характер националистических движений.
Первый, и во многих отношениях наиболее грубый просчет германской политики, привел к смерти огромного числа советских военнопленных. Летом и осенью 1941 года сотни тысяч красноармейцев попали в немецкий плен. В основном это произошло из-за быстрого продвижения немецких войск и серьезного перевеса германского оружия; но, по крайней мере частично, это можно объяснить нежеланием бороться за коммунистическую систему и надеждой, что после плена придет более свободная жизнь для всех советских народов. Германская армия была совсем не подготовлена к настолько массовой сдаче в плен. Однако никакие трудности в содержании пленных не могут извинить ужасные последствия пренебрежения людьми, что, в отличие от большинства других злодеяний, совершенных на востоке, было прежде всего ошибкой вермахта. Частично виной тому была неэффективность или жестокость подчиненных вермахту Etappengruppen (этаппенгруппен, войск тылового района), но исключительная безжалостность многих высоких офицерских чинов также сыграла важнейшую роль, поскольку развязывала руки их подчиненным[302]. Бесчисленные тысячи пленных были заперты за колючей проволокой на открытых равнинах. Продовольствия не хватало настолько, что военнопленные быстро превращались в живые скелеты; осенью появились случаи людоедства[303]. «Изможденные желтые лица выглядывали из воротников шинелей – непередаваемое человеческое страдание», как писал один украинец о посещении лагерей[304]. После наступления холодов сыпной тиф плюс голод стали уносить сотни тысяч человек.
Так как многие из этих лагерей были расположены на Украине, население скоро узнало об условиях в них, даже при том что значительная часть пленных украинского происхождения была отделена от общей массы и освобождена немцами[305]. Кроме того, вряд ли жители не видели трупов военнопленных, расстрелянных (скорее всего как комиссары или коммунисты) и брошенных в деревнях незахороненными[306]. Естественно, убеждение в том, что немцы хотят истребить славянские народы, получило широкое распространение.
Второй просчет немцев был менее шокирующим, чем отношение к военнопленным, но в конечном счете его отрицательное воздействие на отношения с украинским населением оказалось куда сильнее. Это была политика в области сельского хозяйства. В своем намерении получать больше продовольствия и сырья для укрепления германского военного потенциала нацистское руководство решило эксплуатировать сельское хозяйство Украины так же, как это делали советские правители при проведении коллективизации в двадцатых годах[307]. Но немцы были еще менее склонны поставлять в деревню достаточное количество потребительских товаров, чтобы стимулировать труд индивидуального крестьянина, потому что им требовалось направлять их собственным сражающимся войскам. Кроме того, их ситуация была во многих отношениях более трудна, чем у Кремля в 1929 году: материальной базы для реконструкции индивидуальных хозяйств – зданий, оборудования, домашнего скота – часто не хватало, поэтому возвращение к индивидуальному ведению сельского хозяйства, вероятно, означало бы резкое снижение производительности и прибавочной продукции для поставок в Германию.
С другой стороны, у немцев были веские причины уничтожить колхозную систему как существенную особенность советской системы, которую они учили презирать. Огромное число крестьян ненавидело колхозы, похоже, больше, чем любой другой аспект советской системы. Хотя и маловероятно, что эта ненависть была всеобщей, несомненно, такое чувство было сильным среди старших групп населения, тех, что на других условиях готовы были бы сотрудничать с немцами.[308]