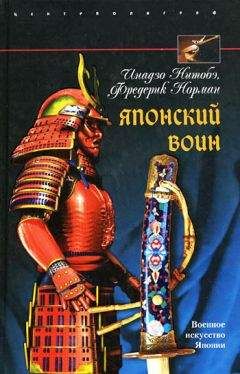Цуруги, древний японский меч, заметно отличался от того оружия, которое можно увидеть сейчас в музеях и на витринах антикварных лавок Англии. У него был прямой, обоюдоострый клинок длиной примерно в метр и больше, и он имел довольно много общего со старинным мечом европейских рыцарей. Катана, средневековый и современный японский меч, гораздо легче и короче, у него клинок с одним лезвием, слегка изогнутый ближе к острию. Вместе с катаной, что разрешалось только самураям, носили вакидзаси, короткий меч с клинком длиной от двадцати до тридцати сантиметров, именно его использовали, совершая харакири, или «счастливое избавление».
Довольно любопытно, что само слово «харакири», хотя оно и состоит из двух японских слов: «хара» («живот») и «кири» («резать»), является европейским изобретением. Ни один японец и не подумает прибегнуть к этому наименованию, разве что в шутку и в адрес иностранца, а скорее заменит его синонимом «сэппуку». Существовало сэппуку двух типов: принудительное и добровольное, и, как говорит по этому поводу профессор Чемберлен в своих «Японских обычаях»: «Первое было милостью, дарованной властями, которые снисходительно дозволяли преступникам из среды самураев совершить самоубийство, вместо того чтобы предать их в руки обычного палача. Осужденному официально объявляли о времени и месте, и за церемонией наблюдали специально назначенные чиновники. Этот обычай уже практически отжил. Добровольное харакири совершал человек в безвыходном положении, а также из верности покойному сюзерену». Далее профессор приводит несколько известных примеров: «Такого рода случаи до сих пор еще имеют место; об одном упоминали газеты в апреле сего же, 1901 года, еще о двух в мае. Типичен случай, произошедший с молодым человеком по имени Охара Такэёси в 1891 году. Это был лейтенант милиции в Йедзо, он вспорол себе живот перед могилами предков в токийском храме Сайтокудзи. После обычного в таких случаях ритуала лейтенант Охара оставил письмо с изложением мотивов своего поступка, и единственное, что отличало его случай от других подобных, это что письмо следовало направить в токийское новостное агентство для публикации во всех газетах. Автор, по всей видимости, в течение одиннадцати лет размышлял о вероятности захвата русскими северных территорий Японской империи и, решив, что, пока он живет, его слова и усилия обречены на неудачу, решился испытать, чего он сможет достигнуть своей смертью. Его поступок не принес никакого результата. Тем не менее самопожертвование Охары, в основе которого лежали политические соображения и надежда, что голос из могилы сильнее тронет человеческие сердца, чем любые доводы, озвученные голосами живых, – все это полностью согласуется с японским образом мысли. Лишь только правительство Японии уступило требованиям Франции, России и Германии, отдав захваченную провинцию Ляодун, как сорок офицеров совершили самоубийства по старинному обычаю. Бывает даже, что женщины готовы убить себя из верности и долга, но для них принятый способ – это перерезать себе горло. Отнюдь не вызывает удивления, но, скорее, восхищение по японским понятиям, случай, произошедший в 1895 году с молодой женой лейтенанта Асады, которой сообщили о гибели мужа на поле боя, и она тут же с согласия своего отца решилась последовать за ним. Тщательно убрав дом и нарядившись в самые дорогие одежды, она поставила в нише портрет мужа, простерлась перед ним и перерезала себе горло кинжалом, полученным в подарок на свадьбу».
Трудно сказать, откуда пошел обычай сэппуку, но, вероятно, в его основе лежало желание побежденного воина избегнуть унижений плена в том случае, если он попадет живым в руки врага. Так, безусловно, было во многих известных нам случаях в начале прошлой войны на Дальнем Востоке, когда японские офицеры и рядовые сотнями совершали сэппуку, чтобы избежать русского плена. Молодой самурай старины, помимо правильного владения оружием, также учился совершать сэппуку установленным способом, который заключался в следующем: приняв ванну и попрощавшись с друзьями, будущий самоубийца расстилал циновку, коврик или нечто подобное на полу своей комнаты и садился перед альковом лицом к семейному алтарю, затем обнажал верхнюю часть тела до пояса. Подоткнув снятую одежду под ноги, он брал свой вакидзаси, вынимал из ножен и, прижимая клинок ко лбу, кланялся алтарю. Затем он брал вакидзаси правой рукой, глубоко вонзал в живот и, помогая себе левой рукой, перерезал поперек. Подоткнутая одежда не давала ему упасть назад, когда он уже был не в силах сидеть прямо из-за боли и слабости, так как падение на спину считалось совершенно недопустимым для самурая. При совершении женского сэппуку горло скорее не перерезали, а наносили в него удар, и женщины таким образом обвязывали веревкой свою одежду, чтобы она ни в коем случае не распахнулась и не скомкалась во время предсмертных судорог.
«Удивительно ли, – пишет Мак-Клэтчи, – что он[68], оберегаемый самураями почти как продолжение самого себя и почитавшийся обычными людьми защитником от насилия, побуждает японских писателей к самым пылким эпитетам, и они называют его «драгоценной собственностью господина и вассала, пришедшей из времен более древних, чем божественная эпоха» или «живой душой самурая»?» Также неудивительно, что у японцев есть столько связанных с мечами преданий. Одно из них, рассказанное мне моим старым учителем фехтования, не только интересно и занимательно, но и весьма показательно для мрачного нрава самураев в том, что касалось проверки остроты меча. Предание заключается в следующем: по словам моего учителя, жил в старину один даймё, большой покровитель оружейников и мечников. Однажды состоявший у него на службе оружейных дел мастер преподнес ему прекрасный клинок, работу над которым только что закончил. Желая проверить меч, даймё послал за своим вассалом, знаменитым воином, и, когда тот явился, велел ему испытать клинок на торговце рыбой, которому случилось проходить мимо по дороге неподалеку от замка. Великий воин сунул меч за пояс вместо своего, который оставил на попечении друга, отправился по дороге, поравнялся с торговцем и прошел мимо, а затем вернулся к своему повелителю другим, более коротким путем. Разгневанный даймё спросил, почему он не выполнил данного ему приказа. Умолив господина проявить терпение, воин попросил его внимательно смотреть на торговца, когда тот подойдет к резкому повороту на дороге. Даймё присмотрелся и, к своему удивлению, увидел, как торговец вдруг рухнул на землю, причем верхняя часть его тела упала в одну сторону, а нижняя в другую. Конечно, мораль истории не только в том, как необычайно остер был меч, но и в том, как ловок был самурай и как искусно он нанес удар, что потребовалось, только чтобы тяжелые корзины с рыбой довершили его работу.
Самурай в церемониальном костюме.
Вплоть до 1876 года все самураи носили два меча, и это было их отличительным знаком, а разные способы ношения оружия свидетельствовали о ранге воина. Самураи высокого рождения носили мечи рукоятями вертикально вверх; простолюдины, которым позволялось носить только один меч, да и то только во время путешествия, носили его, горизонтально засунув за оби, японский кушак, а обычные самураи носили мечи таким образом, который представлял собой нечто среднее между двумя упомянутыми. Задеть ножнами своего меча о чужие было чудовищным нарушением этикета; тронуть заткнутые за пояс ножны, как бы вынимая меч, приравнивалось к брошенному вызову, а положить оружие на пол и отпихнуть его ногой в чью-то сторону считалось смертельным оскорблением, которое обычно влекло за собой поединок не на жизнь, а на смерть. Невежливо было даже вынимать меч из ножен, не спросив сначала позволения у всех присутствующих. Когда старинный японский дворянин заходил в гости к другому, пусть даже самому близкому другу, он всегда оставлял меч у привратника – видимо, потому, что они очень мало доверяли друг другу.
Поскольку, как мне думается, я был первым человеком с Запада, который стал изучать японское искусство владения мечом, возможно, будет небезынтересно описать здесь свой опыт занятий в фехтовальных школах Токио. Позвольте начать так: летом 1888 года я поселился в Токио, и малоподвижный характер моих обязанностей вскоре начал сказываться на моем здоровье, так что я решил заняться кэндзюцу, или японским искусством владения мечом. Связавшись с властями в кэйситё, главном полицейском управлении Токио, я вскоре познакомился с человеком по имени Умэдзава-сан, преподавателем кэндзюцу полицейского участка Таканава, а кроме того, одним из лучших мастеров кэндзюцу Японии. Никогда учитель не относился к своему ученику с большим интересом и гордостью, чем Умэдзава ко мне, и это было тем более похвально с его стороны, что большинство учителей кэндзюцу в Токио смотрели на то, что он учит меня японскому искусству фехтования, как на своего рода ренегатство. Примерно первый десяток уроков он дал мне на лужайке перед моим же домом, но спустя некоторое время я стал ежедневно посещать спортивный зал в Таканаве, и в течение нескольких месяцев я фехтовал с лучшими из бывавших там фехтовальщиков или, скорее, брал у них уроки. Когда Умэдзава-сан посчитал, что я уже достаточно обучен, он разрешил мне драться с кем-то из самых хладнокровных и выдержанных фехтовальщиков, но всегда был рядом, чтобы давать указания и поправлять мои промахи. Будучи старым кавалеристом, немало испытавшим на себе полковую муштру и прочие физические упражнения, могу уверенно сказать, что японская система обучения кэндзюцу куда как превосходит нелепые упражнения с оружием, распространенные в британской армии, и что в отношении жесткой пешей схватки японская система двуручного фехтования стоит намного выше любой европейской системы. Первоклассный итальянский или французский дуэлист, скорее всего, побьет первоклассного японского фехтовальщика, но только если будет биться с ним на площадке, полностью отвечающей требованиям своего стиля фехтования. Более чем вероятно, что японский фехтовальщик будет иметь преимущество на неподготовленной площадке, на холме или неровной местности, или, иными словами, в ситуации жесткого поединка, когда стоит цель убить, и убить быстро, не обращая особого внимания на тонкости формы.