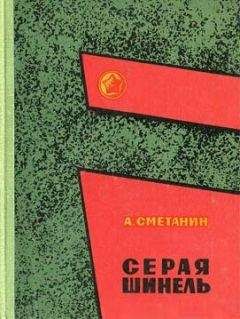Но пока все обходится. На склонах высоты, я знаю, лежат трупы. Много трупов. То в гимнастерках, то в летних светло-зеленых мундирах со знаками СС на петлицах, и меня, живого, не так-то легко отличить от них. Это уж точно.
Перебираюсь через неглубокую канавку, потом через измятую танками изгородь. Вот и яблони, о которых говорил Семен. Но где среди них колодец? Приподнимаюсь на колени и слышу, как справа от меня булькает. Снова опускаюсь на четвереньки, ложусь пластом и ползу на звук стекающей в колодец воды. Не знаю, почему она стекает в колодец, но такой звук бывает лишь тогда, когда на срубе стоит дырявое ведро и струйки воды сочатся Из него обратно, в холодную, жутковато таинственную темень колодца.
В следующее мгновение моя душа уже мчится в пятки. У сруба на коленях стоит гитлеровец.
На фоне густо-серого неба я отчетливо вижу его каску. Он что-то делает, но что не знаю, во всяком случае, руки его заняты.
Не ведаю, каким движением, а может, и не движением вовсе, а одним дыханием или стуком сердца я выдаю себя. Немец вдруг оборачивается в мою сторону, негромко говорит:
— Вассер, Ганс!
Я выхватываю из-за пояса штык-кинжал и, спасибо Тятькину, через секунду враг падает к моим ногам…
Надо уходить. Быть может, этот Ганс рядом. Шарю руками в поисках котелков и натыкаюсь на что-то холодное и мокрое. Фляжки. Немецкие фляжки в суконных чехлах. Штук пять или шесть, надетых на солдатский ремень. Все наполнены водой. Я, очевидно, застал немца в тот момент, когда он навинчивал на них крышки.
На срубе, рядом с ведром, из которого все еще струится в колодец вода, лежит «шмайсер».
Хватаю его, ремень с фляжками и что есть духу бегу обратно. Где-то позади гремит пулеметная очередь. Но это, оказывается, не в мой адрес, а гораздо левее. Пока светит очередная ракета, лежу, отдыхаю, потом вскакиваю и мчусь наверх по склонам нашей безымянной.
Назаренко ни о чем не спрашивает. Он торопливо снимает с ремня две фляжки. Одну протягивает мне, с другой идет к старшему военфельдшеру.
Вода. Она вошла в меня как молодая свежая кровь в организм, истощенный тяжелым недугом. Я выпил полную фляжку, мог бы выпить еще две, но не имел на это права.
Теперь мне нужно немного прийти в себя, осмыслить все происшедшее. В течение этих последних пяти или десяти минут мною руководил инстинкт, а не разум. Я толком все же не знаю, что произошло, хотя, если хотите, могу рассказать обо всем до мельчайших деталей. А вот соединить эти детали, эти штрихи в единое целое, нарисовать из них картину происшедшего, я, наверное, не смогу. Здесь нужен ум философа, аналитика, а не мой солдатский.
Хорошо, что Семен пока ни о чем меня не спросил, хотя, конечно, обо всем догадался.
Возвращается Назаренко, садится на дно окопа, снимает с ремня очередную фляжку, не спеша отвинчивает крышку, делает глоток. Затяжной, звучный. Потом вытирает губы тыльной стороной ладони и говорит:
— Ступай. Тебя доктор зовет.
— Зачем?
— Он скажет.
Старший военфельдшер лежит укрытый до подбородка солдатской шинелью. Под головой — санитарная сумка. Лицо его я вижу в темноте плохо, но могу сказать, что оно сильно осунулось, глаза глубоко спрятались под седые пышные брови. Он один в батальоне носил «кубари», все остальные средние командиры давно ходили в погонах. Говорили, что комбат не раз приказывал старшему военфельдшеру сменить петлицы на погоны и получить пистолет, но наш доктор не делал ни того, ни другого.
— Товарищ боец Кочерин, — тихо говорит мне старший военфельдшер, с трудом выдавливая из себя слова, — несколько минут назад вы совершили подвиг: принесли тяжелораненому воду…
Старший военфельдшер некоторое время молчит, глядя в высокое, усеянное звездами небо, потом жестом показывает мне, чтобы подвинулся ближе и продолжает:
— …принесли воду, чтобы спасти его жизнь, рискуя своей. Вы храбрый боец, товарищ Кочерин. И, как старший по званию, я награждаю вас за это часами.
Раненый нащупывает в темноте мою руку и кладет на ладонь большие карманные часы с толстой цепочкой.
— Этими часами, сынок, меня наградил в одна тысяча девятьсот двадцатом году командир Астраханского кавалерийского полка товарищ Митрофан Михайлович Забродин. Внутри, на крышке, есть надпись: «За храбрость». Теперь я награждаю ими тебя, сынок. Известно, фельдшерам не дано право награждать орденами, хотя ты и достоин этого.
Я сижу рядом с раненым, сжимая в потном кулаке тикающие часы.
Что делать с ними? Отказаться и вернуть? Но ведь старший военфельдшер приказывает мне взять часы. Это награда за спасение тяжелораненого.
— Тебе сколько, сынок? — неожиданно спрашивает старший военфельдшер.
— Восемнадцатый…
— Как и моему Володе. Я его тогда в честь Ленина назвал.
— А где ваш Володя? — спрашиваю, чтобы как-то поддержать разговор.
— Зарубили басмачи в двадцать девятом. Четыре годика было. Вместе с матерью зарубили. С тех пор так и жил один. Бобыль-бобылем. Я в фельдшерах, сынок, с одна тысяча девятьсот четырнадцатого. Еще в армии генерала Самсонова в Восточную Пруссию ходил. Слыхал про такого?
— Не слыхал.
— Учиться будешь — узнаешь. А теперь достань из медицинской сумки планшетку.
Я осторожно приподнимаю голову раненого, достаю перетянутый резинкой старенький командирский планшет.
— А теперь достань из него тетрадку и карандаш.
Когда сделал и это, старший военфельдшер что-то пишет на тетрадном листе, пишет, как попало, не видя написанного, потом протягивает мне тетрадь:
— Отдашь старшему врачу полка. Но не читай. Не для тебя писано. Да не в карман, за отворот пилотки положи…
— Нету у меня пилотки. С котелками у колодца осталась.
— Ну, ступайте, товарищ боец Кочерин на свой боевой пост. Скоро, очевидно, за мной придут для эвакуации. Еще раз спасибо вам за помощь тяжелораненому. Ступайте, я постараюсь уснуть.
Когда около полуночи к нам пришла смена, старшего военфельдшера уже не было в живых. Наверное, бойцы похоронной команды так и нашли его потом лежащим под шинелью, по-солдатски вытянувшегося в струнку, приподнявшего кверху маленький клинышек седой бороды.
Ни санитар, ни Реут на безымянную не вернулись.
Нашу позицию занимает стрелковый взвод под командованием молоденького лейтенанта. Высокого, худощавого, совсем не воинственного на вид, несмотря на его каску и пистолет в новенькой кобуре из кирзовой кожи.
Вместе с Семеном они обошли позицию на склоне высоты, потом лейтенант приказал своим пехотинцам сложить убитых и умершего от раны старшего военфельдшера в воронку от фашистской фугаски и, пожав Семену руку, тоном полководца сказал:
— Спасибо за службу, товарищи солдаты. Вы дрались геройски.
Слово «солдаты», в то время официально не входившее в армейский обиход, вызвало на наших лицах улыбку. Однако лейтенант в темноте ее, очевидно, не заметил.
— Не за что, товарищ лейтенант. — Семен участливо посмотрел на командира-новичка. — Мы просто делали свое, как вы сказали, солдатское дело. Желаю и вам удержать безымянную.
— Мы, товарищ сержант, пришли не обороняться, а наступать. Это так, для вашего сведения…
Мне показалось, что лейтенант прихвастнул. Ведь всю неделю, начиная с пятого июля, мы медленно, но все-таки пятились к востоку, а он, видите ли, пришел со своим взводом, чтобы двинуть в обратном направлении. Чудак-человек! А может, не чудак?
Ни Семен, ни я не знали в ту минуту, что лейтенант говорил правду, что через несколько часов, на рассвете Ставка введет в сражение на участке нашего Воронежского фронта сразу две армии — 5-ю гвардейскую общевойсковую и 5-ю гвардейскую танковую и, как напишет потом маршал Г. К. Жуков, здесь начнется «…величайшая битва танкистов, артиллеристов, стрелков и летчиков, особенно ожесточенная на прохоровском направлении».
Мы с Назаренко идем в район командного пункта нашего батальона, который должен находиться где-то в районе скотного двора. Днем мы видели его развалины, а сейчас ориентируемся по памяти. Семен несет станок пулемета, я — тело и порожнюю коробку из-под ленты.
Не могу понять одного: почему вдруг наступила такая тишина? Даже ракеты со стороны немцев и те перестали полосовать небо, усыпанное редкими тусклыми звездами. Кажется, не только люди, техника, оружие, даже земля, истерзанная вдоль и поперек свинцом и сталью, вспоротая траками, истоптанная солдатскими сапогами, выбилась из сил, и сейчас передыхают перед новыми схватками, перед тем, чтобы с восходом солнца с новым ожесточением всем вместе и сразу оказаться в огненном пекле, попросту именуемым общевойсковым боем.
На капэ батальона нас встречает командир роты. Кроме нас с Назаренко и старшего лейтенанта Щукина в роте в живых остались еще трое. А исправных пулеметов — один, тот, что принесли мы с Семеном.