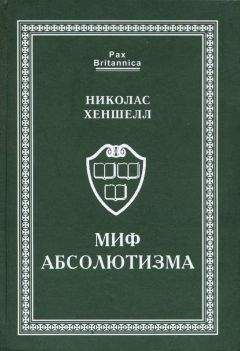МОНАРХИ
В обеих странах персональная монархия играла центральную роль в управлении. Смена монарха была политическим событием, означавшим падение приверженцев старого и триумф друзей нового короля. Восшествие на престол Людовика XIV в 1774 году и Георга III в 1760 году было связано с отставкой министров их предшественников. Важность личных пристрастий монарха делала его двор центральным государственным учреждением, а его династические интересы — важнейшим вопросом внутренней и внешней политики. До конца XVIII века и во Франции, и в Англии состоять в оппозиции означало быть нелояльным к династии, а поскольку монархам Ганноверской династии не давали покоя якобиты, представлявшие потенциальную угрозу правящему дому, на островах обвинение в нелояльности звучало гораздо более серьезно. Предполагалось, что среди добропорядочных людей царит единство, а партийные расколы свидетельствуют о нелояльности. Историки ошибаются, связывая такую точку зрения с фанатизмом французских революционеров 1789 года. Партии воспринимались как выразители интересов придворных фракций, интриговавших против общего блага, которое олицетворял монарх.
Отношения между членами королевской фамилии имели важное политическое значение, так как обиженные родственники короля могли встать во главе оппозиции и придать ей законный характер. Значительную часть политических конфликтов во Франции спровоцировали принцы крови, а в Англии — представители боковых ветвей династий Тюдоров и Стюартов. Сходство между двумя странами сохраняется и после 1688 года. Ссоры между всеми тремя Георгами и их старшими сыновьями необыкновенно похожи на конфликт между Бурбонами и династией герцогов Орлеанских. В 1780–е годы принц Уэльский и герцог Орлеанский были приятелями, обменивались скаковыми лошадьми и любовницами и поддерживали друг друга в том, что впоследствии сочтут их сопротивлением тираническим венценосным родственникам. В их домах могли открыто собираться оппозиционеры: один прикрывал республиканца Фокса, а другой — альянс озлобленных придворных и желтой прессы, козни которых подрывали престиж Людовика X V I и его королевы.
Оба монарха были абсолютными в рамках закона. При этом ни французский, ни английский король ни до, ни после 1688 года не могли быть привлечены к ответу за его нарушения. Непонимание возникло главным образом потому, что историки тюдоровской и стюартовской Англии придавали слову «абсолютный» тот негативный смысл, который с XIX века имеет термин «абсолютистский». Например, Коуард отрицает, что Яков I и Карл I вообще
претендовали на титул абсолютных монархов.1 На самом деле они сами, и даже их враги, постоянно употребляли этот термин. Но они использовали его в ином смысле, чем это делает Коуард. Они подразумевали, что Стюарты, будучи истинными монархами, не являются чьими‑либо подданными. Как и Бурбоны, они не считали возможным представлять свои решения на рассмотрение комитета грандов. Так же как и Бурбоны, английские монархи отстаивали свою независимость от папы и императора, ссылаясь на разрыв с Римом Генриха VIII в 1530–е годы и на Папский конкордат Франциска I в 1515 году. Абсолютная власть означала «имперский» статус, то есть независимость от какой бы то ни было верховной власти. Тем не менее большинство подданных французского короля принадлежало к римско–католической церкви. А вот «единственный верховный глава Церкви Англии на земле» мог действительно считаться «абсолютным» и в духовных, и в светских делах. Соответствующие законы закрепляли церковную супрема–тию исключительно за королем, а не за королем–в-парламенте.2 В этом отношении Тюдоры и их наследники обладали беспрецедентной личной властью. Они были самыми абсолютными монархами в Европе, заменившими королевским гербом крест на церковных алтарях.
И все же и для Тюдоров, и для Валуа активная пропаганда своей абсолютной власти была своего рода защитным механизмом, ограждавшим права монархов от внешних посягательств. Обе монархии лишь недавно положили конец феодальной дисперсии суверенитета и лишили местных владетелей прерогативных, или регальных, прав. В Англии этот процесс начался намного раньше, чем во Франции, но к тому времени еще не завершился. Пограничные графства были лишены регальных прав только в 1536 году. Понятие «абсолютная власть» не означало, что монарх мог делать все, что ему угодно. Каждый государь обладал сходными прерогативными полномочиями, которые нельзя было оспаривать в законном порядке и за применение которых он не отчитывался ни перед одним земным властителем. Парламент или сословия могли попытаться призвать к ответу его министров: традиция парламентского импичмента имела давнюю историю. Но проблемы министров в принципе не касались монарха. Государь стоял выше закона, но одновременно подчинялся закону: современники не видели в этом противоречия. Монарх подчинялся закону, так как признавал гарантированные законом права подданных. Часто писали о том, что если французский король не желал чего‑либо делать, его нельзя было к этому принудить. Это верно. Но то же самое можно сказать и о короле Англии: невозможно было заставлять его подчиниться собственным приказам. Так как король
1 Coward B. 1 9 8 0. The Stuart Age. Longman. P. 81.
2 Guy J. 1988. Tudor England. Oxford University Press. P. 169-178.
сам был источником правосудия, он не мог подвергаться суду, и в этом смысле оба короля стояли над законом. Английская корона до сих пор сохраняет это положение. До 1947 года она даже не несла ответственности за ущерб, причиненный действиями от ее имени. А до 1980 года прерогатив–ные решения не могли подвергаться юридическому анализу.1
В 1756 году Людовику XV был представлен доклад о власти и возможностях его соперника Георга II. Донесения французского шпиона не оставляют сомнений относительно природы королевской власти в Англии: «Король совершает все, что ему угодно: объявляет войну, подписывает мир, заключает договоры и союзы; он может набирать армии, снаряжать флот, но на свои, а не на народные деньги. Он распоряжается всеми церковными достоинствами, всеми гражданскими, политическими и военными должностями, правосудие вершится его именем».2 В данный период французский и английский монархи стремились окружить прерогативные, то есть государственные, дела божественным ореолом. Политика преподносилась как тайное тайных, дело, недоступное простым смертным. Во Франции проявить интерес к политике без прямого приглашения короля означало оскорбить величие монарха. Калонну однажды пришлось извиняться перед Людовиком XVI за употребление этого запретного слова. Однако британская историография уже давно придерживается мнения, что интерес общества к управлению государством был вполне обоснованным и законным, по крайней мере после революции 1688 года. Это не так. Роль прессы и общественного мнения неизменно преувеличивалась британскими историками, поэтому люди периода правления Георгов становились похожи на англичан викторианской эпохи. Реконструкцию подлинной исторической реальности в этой области начали Блэк и Кларк. Даже в 1750–е годы политика была слишком важным предметом, чтобы представлять ее на обсуждение широкой общественности. Двор в Сент–Джеймском дворце и парламент в Вестминстере были замкнутыми мирами, и поступавшая оттуда информация строго контролировалась. Освещение политики в прессе сводилось к скупым сообщениям о должностных перестановках: комментарии событий сводились к минимуму. Передавать содержание парламентских дебатов запрещалось до 1770–х годов. Большинство политиков избегало публичного обсуждения политических вопросов, слишком тонких для понимания простых людей. Общественное мнение не играло важной роли, поскольку счи-
1 Wade H. W. R. 1961. Administrative Law. Oxford University Press. P. 809-813;
Turpin C. 1985. British Government and the Constitution. Weidenfeld and Nicolson.
P. 343-344.
2 1756. Etat actuel du royame de la Grande Bretagne. BL Add. MSS. 20842, 406,
A22.
талось, что оно направляется политиками в выгодном для них направлении: впрочем, так оно и было. Действия Чатема и Уилкса часто оценивают так, как будто они попали во времена Гладстона. Если в ганноверскую эпоху массы следовали призывам политиков, это объяснялось тем, что они прибегли к подкупу, а вовсе не контролировали средства массовой информации. Считается, что «война из‑за уха Дженкинса» началась после бурного возмущения английского общества тем, что солдат испанской береговой охраны отрезал ухо у капитана английского судна. Теперь, однако, ясно, что сложившаяся в тот момент внешнеполитическая ситуация повлияла на развер- тывание военных действий гораздо больше, чем требования парламента и прессы, и тем более, чем ухо Роберта Дженкинса, левое или правое, отрезанное или оторванное.1