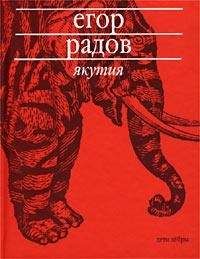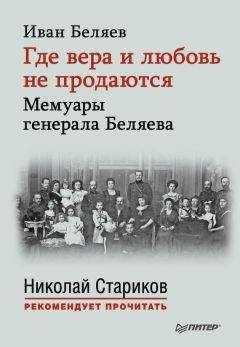Фон – свирепствовавший в городе сыпной тиф, вдобавок зима выдалась необыкновенно суровая даже для этих мест: в первую декаду января 1923 года средняя температура составляла сорок семь целых девять десятых градуса мороза, во вторую – на два градуса ниже. Ночами ртутный столбик опускался до пятидесятивосьмиградусной отметки. В такие морозы останавливаются ручные часы, потому что в них замерзает смазка, и при полном безветрии, под ясным звездным небом человек слышит таинственный тихий шум, похожий на плеск листвы или шорох пересыпаемого зерна – шуршат кристаллики льда, в которые мгновенно превращается влага выходящего с дыханием воздуха. Такой звук якуты называют «шепотом звезд» – поэтично и в то же время с чувством близости проступающих в этой космической стуже иных, нечеловеческих сфер бытия.
2
Август Рейнгардт – кадровый офицер, полунемец-полулатыш из Дерпта, любитель порассуждать о том, что «без немцев и латышей в России не было бы порядка». Однажды, рассказывает Соболев, такой разговор закончился выстрелами и ранением двух диспутантов, в том числе, видимо, самого Рейнгардта, но это не отбило у него охоту к подобным высказываниям. Пепеляев охарактеризовал его как человека «сильной воли, сурового воина».
На двести пятьдесят бойцов у него имелось всего полсотни нарт, на них везли продовольствие, палатки, печки, котлы и минимальный запас патронов. Идти приходилось по целине. Впереди верхом на оленях ехали тунгусы, проминая дорогу для оленей упряжных, за ними – нарты с грузом, за нартами – пешая колонна. Дозоров не высылали, от якутов известно было, что на пятьсот верст к западу, до села Петропавловское, красных нет.
В зависимости от кормовища оленей в день проходили от десяти до сорока верст. Чтобы уставшие люди не заботились об ужине и ночлеге, утром квартирьеры на нартах выезжали с места стоянки и к прибытию батальона ставили палатки, кололи дрова, разводили костры, кипятили воду. Из-за нехватки оленей продовольствие взяли в обрез, суточная порция была маленькая: фунт муки-крупчатки, полфунта мяса, немного крупы и раз в несколько дней – две столовых ложки соли, которой во Владивостоке не запаслись, не зная, что в Якутии это огромная ценность. Изредка выдавалось немного водки.
«Настроение людей было плохое, – со слов кого-то из участников этого марша писал Никифоров-Кюлюмнюр. – Иначе и быть не могло. Каждому не лишенному некоторого здравого смысла человеку ясна была вся абсурдность похода… Высокие мрачные горы, окаймлявшие дорогу с обеих сторон, сама дорога, покрытая глубоким снегом и не имевшая признаков жизни, наводили ужас на солдат. Они чувствовали себя в каменном мешке, откуда нет выхода».
11 января тем же маршрутом ушли последние подразделения под командой Вишневского. С ними покинул Нелькан и Пепеляев, незадолго перед тем отметив в дневнике: «Жизнеперелом происходит, видимо, и характера, и миросозерцания».
Имеется в виду – перелом к лучшему. Как ни странно, падение Владивостока сделало положение Пепеляева более определенным. Исчезают мысли о возможности возвращения в Приморье, война становится единственным выходом. Охотское море сковано льдом, и если до июня все равно не удастся выбраться ни в Китай, ни в Японию, лучше уж наступать самому, чем ждать, когда Байкалов, собравшись с силами, перейдет в наступление.
Угнетающее бездействие осталось в прошлом, и на одном из ночлегов по пути к Усть-Милю в дневнике Пепеляева появляется запись, по тону и настроению мало похожая на прежние: «Еду на оленях, а иногда на страшно заморенной лошадке или иду пешком. Сильный мороз, 35–40 градусов, надолго останавливаться нельзя. Часто бегу, чтобы согреться, одну-две версты. Дружина небольшими колоннами (100–150 чел.) движется пешим порядком. Страшно боялся за этот переход, с ужасом думал, что мы все замерзнем. Ведь идти 25 дней, по дороге ни одного селения… Но вот обгоняю первую, вторую, третью колонну – идут весело, несмотря на то что в пути уже 10–15 дней. Больных всего пять человек, и один умер скоропостижно (доброволец Рыбкин, крестьянин, 48 лет). Есть обмороженные руки, и почти у всех обморожены нос, щеки. У иных очень сильно. У многих от ходьбы пухнут ноги».
Вишневский почти ежедневно отмечал в дневнике температуру «пугливого», как писал Короленко, «морозного воздуха, в котором треск льдины вырастает в пушечный выстрел, а падение ничтожного камня гремит как обвал» – тридцать два, тридцать четыре, тридцать шесть градусов ниже нуля по Реомюру. По Цельсию это еще на восемь-девять градусов холоднее.
С каждым днем Вишневский все с большим трудом одолевал дистанцию от бивака до бивака: «Вчерашний переход в 21 версту был чрезвычайно тяжел… Я вчера еле дотащился… Было очень холодно, люди очень устали. Я сам едва дополз. Устал как никогда… Олени совершенно не идут, нарты ломаются, обоз перегружен».
Когда до Усть-Миля оставалось три дневных перехода, кто-то сообщил ему новость: «Из Амги на Усть-Миль красными выслан отряд в сорок человек. По Амге распространялись слухи, что отряд этот выслан с мирными предложениями к генералу Пепеляеву».
Речь идет о миссии Строда.
1
В начале января 1923 года Рейнгардт и Строд, ничего не зная друг о друге, приближались к Усть-Милю с противоположных направлений: первый шел с востока, второй – с запада.
«Длинной вереницей растянулись наши олени, характерно пощелкивая на ходу копытами длинных стройных ног, – пишет Строд. – Узкие длинные нарты неслышно скользят по только что развороченной целине девственного снега. От дыхания бегущих животных пар садится и замерзает белым инеем на одежде бойцов. Мороз залезает в рукавицы и, как иглами, покалывает пальцы рук, зябнут и ноги несмотря на теплые валенки. Часто, чтобы разогреться, приходится слезать с нарт и версту-другую бежать… Ветви деревьев под тяжестью осевшего на них снега пригнулись к земле, преграждая путь. Кажется, дороге не будет конца, и отряд никогда не выберется из этих дебрей».
Однажды наткнулись на какого-то человека, скрывшегося в тайге. Двинулись по его следам и вышли к одинокой юрте на опушке. Она была пуста, но на столе стоял котел с горячим супом, в камельке догорали дрова. По следам на дворе определили, что здесь находилось около двадцати человек, в которых проводники заочно признали партизан из отряда Артемьева. Это был якутский интеллигент, учитель, и Строд надеялся, что он согласится пропустить делегацию в Нелькан или сам возьмется доставить письма Пепеляеву. С утра на переговоры с ним отправились парламентеры-якуты.
Вскоре после их ухода приехал неизвестный всадник. «Привязав во дворе коня, – вспоминал Строд, – он зашел в юрту, снял себя старую, с облезлой шерстью, коротенькую оленью доху. На гимнастерке у него оказались погоны, на которых было написано химическим карандашом: 1.Я.П.О., то есть «1-й Якутский партизанский отряд».
Он очень удивился, узнав, что люди в юрте – красные, но впоследствии такое случалось нередко. «Все грязные, все матерятся», – объяснял причину ошибки другой пепеляевец, в полутьме перепутавший своих и чужих.
От пленного узнали, что Пепеляев, получив провиант и «олений транспорт», движется к Усть-Милю, туда же для связи с партизанами прибыл полковник Суров с несколькими офицерами. Это означало, что парламентеры попадут к нему, а не к Артемьеву, и когда на третий день они не вернулись, а артемьевцы попытались угнать у Строда оленей, что для затерянной в тайге экспедиции означало бы верную смерть, он счел «рискованным и бесцельным» оставаться здесь дальше. После того, как Пепеляев начал поход, переговоры потеряли смысл. Строд, как он пишет, понял, что парламентеры задержаны, и увел отряд обратно в Амгу.
Его версии противоречит дневник Пепеляева: «На наших передних партизан брошен отряд «мирной делегации» (40 чел., 4 пул.), но, увидев наших ребят, скрылся, оставив письмо на мое имя с предложением сложить оружие и гарантией неприкосновенности в случае согласия на это».
Можно предположить, что по горячим следам Строд бросился в погоню за теми, кто пытался угнать у него оленей, в азарте забыв, что это классический таежный способ заманить противника в западню, но кто-то из его бойцов заметил притаившихся в лесу артемьевцев, и отряд успел отступить без потерь.
Оставив прямо на снегу или в юрте пакет с письмом для Пепеляева, Строд покинул опасный район. Признаваться в бегстве от партизан-якутов он не хотел, не стоило упоминать и о том, что парламентеры, как стало известно позже, не были задержаны пепеляевцами, а перешли к ним сами. «Возвратиться назад не пожелали», – отметил Вишневский.
Ревкомовское послание дошло до Пепеляева не совсем так, как задумывалось, но произвело на него желаемое впечатление. Под ним стояли подписи Байкалова и председателя ревкома, якута Исидора Барахова, но писал, видимо, умница Барахов, хорошо владевший пером и умевший обходиться минимумом идеологии. За скупым деловитым тоном письма чувствуется сознающая себя сила: «Владивосток, ваша база, пал. Те, кто послал вас сюда, вам не помогут. Местное население, бедное, истощенное гражданской войной и теперь определенно стоящее на стороне советской власти, вам не сочувствует и помогать также не будет…»