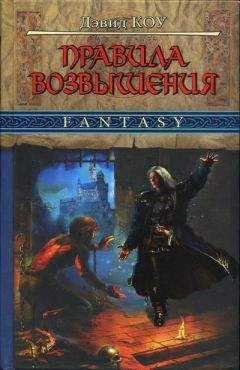Мы зашли в маленький отель «Ленгвэл», расположенный на 44-й улице, и сняли каждый по комнате за умеренную плату – семь долларов в неделю. Это, конечно, был не дворец. Шумно, бугристые стены покрыты несколькими слоями слипшейся краски грязно-розового цвета, умывальники – скорее серые, нежели белые, совершенно продавленные кровати. Какая разница, зато мы в Нью-Йорке, в городе, о котором мечтали все годы оккупации! В этой стране правило зрелище, там жили все артисты, перед которыми мы преклонялись и которыми восхищаемся до сих пор. Мы лелеяли надежду найти в нем свою нишу и ничего не боялись, ведь все складывалось как нельзя лучше. У нас оставалось всего несколько долларов, но мы верили в успех. В тот же вечер мы частично потратили свои сбережения, купив билеты в кинозал, где перед началом сеанса играл оркестр Арти Шоу. После этого устроили себе хот-договую оргию на Тайм-сквер и, наконец, падая от усталости, повалились на гостиничные койки.
На следующий день мы взяли приступом Карнеги-холл и попали на мастерский джазовый концерт Стена Кентона и его оркестра, в котором, как обычно, пела Джун Кристи и играл удивительный трубач Мэйнард Фергюссон. Аранжировки для оркестра делал Пит Риголо. В один из вечеров, когда Пьер покупал входные билеты на представление «Рокетс» в «Радио Сити Мьюзик-холл», а я дожидался его в холле кинотеатра, меня атаковал какой-то мужчина и, показывая на мои туфли из кожи питона, спросил: «How much?» Он хотел их купить. Они были совершенно новые и действительно производили огромное впечатление. Поторговавшись вволю, я получил за них пятьдесят долларов. Благодаря этим деньгам мы с Пьером целых три дня ощущали себя миллионерами, пока не оказалось, что наши финансы равны нулю. К счастью, французские друзья из отеля часто брали нас с собой на приемы, где подавали хорошую еду и не было недостатка в напитках. Во время одной из таких вечеринок Рош исчез. Мы напрасно искали его день, два дня… Не то чтобы мы очень переживали лично за него, но он был нашим казначеем, и все, что у нас оставалось, лежало у него в кармане. Мы волновались, но на самом деле догадывались о том, что могло задержать нашего аристократа. Скудные ресурсы подошли к концу, и мы восполнили их, сдав пустые бутылки из-под кока-колы, чтобы выпить по кружке пива за десять центов, закусывая бесплатно подаваемыми к нему маленькими кусочками сыра.
Наконец Эдит вернулась из Канады. Мы немедленно отправились к ней. Она была очень удивлена: «Какого черта вы здесь делаете?» – «Мы же поспорили, вот и приехали к тебе!» Это ее немного развеселило, но не слишком. Наконец она смягчилась и сказала: «Ладно, попытаемся найти вам денег».
Пока не было работы, но был вид на жительство, я мысленно продумывал диалог, который произойдет у меня с известнейшим издателем, о котором нам говорил Рауль Бретон. И, наконец, мы предстали перед Лу Леви. Нас встретила очаровательная секретарша и провела в кабинет Лу. Разговор получался хаотичным, я отвечал наобум на его вопросы до тех пор, пока Лу не спросил: «And how about la Marquise?» (Что слышно о Маркизе?) Я тогда еще не знал, что Рауль Бретон прозвал свою супругу Маркизой, и решил, что речь идет о песне «Все хорошо, прекрасная маркиза». Поэтому ответил: «She is dead» (Она умерла). Он с ужасом посмотрел на меня: «Dead?» (Умерла?) – «Yes, dead» (Да, умерла). Начиная с этого момента я совершенно запутался и более не смог произнести ничего вразумительного. Тогда Лу вызвал свою правую руку, Сала Чиантия, который, слава Богу, говорил по-французски и помог разрешить недоразумение. Лу тут же проникся к нам симпатией и, прослушав, купил у нас две песни, за которые заплатил прекрасный аванс из двух красивых зеленых купюр цвета надежды.
Эдит, опять Эдит
Даже через много лет после гибели Марселя (Сердана. – Прим. ред.) Эдит жила воспоминаниями об этом человеке. Она молилась за него, думала только о нем и говорила только о нем. Все мы, кто находился рядом, страдали оттого, что она одна. Ей всегда было необходимо кого-то любить. Каждый раз, возвращаясь в Париж, я посещал модные клубы, в частности заведение Мориса Карера, потому что мне нравился его оркестр, которым управлял Лео Шольяк, бывший пианист Шарля Трене. Был там еще один певец, который, на мой взгляд, мог понравиться Эдит Пиаф и, чем черт не шутит, стать новым «хозяином». Красивый голос, прекрасное знание французского языка и горячий американский акцент. Я решил представить его ей. Она каждый вечер выступала в разных кабаре на Елисейских полях. Но надо было найти убедительный предлог, потому что Эдит все еще не желала знакомиться с мужчинами. К моему счастью, Эдди – Эдди Константин, о котором как раз и идет речь – помог мне, сам того не зная. Он хотел написать перевод «Гимна любви». Я воспользовался случаем и тут же начал давать наставления: «Я поговорю о тебе с Эдит. Когда приведу тебя в ее уборную, войдешь, сделаешь приветственный жест рукой, скажешь „Hi“ и широко улыбнешься ей своей обворожительной улыбкой». Все прошло как по маслу…
С Эдит опасно было совершить промах, неважно, шла ли речь о фильме, театральной постановке, книге или ресторане. Если ей что-то не нравилось, вас ожидало презрительное: «Что ж, я так и знала, тебе всегда не хватало чувствительности». Однажды вечером, когда я вернулся из кинотеатра, она спросила, что я смотрел. Стараясь соблюдать осторожность, я процедил сквозь зубы название фильма: «Третий мужчина».
– И что, он действительно так хорош?
– Для меня так лучше не бывает.
– А для меня?
– Мне кажется… ну, в общем, я не готов поклясться, что тебе понравится.
– Ладно, завтра пойду посмотрю, но если фильм плохой, тебе не поздоровится!
На следующий день мы всей толпой явились в кинозал на Авеню Опера, где показывали «Третьего мужчину». Наша дорогая Эдит сразу поддалась обаянию Орсона Уэллса и, узнав, что фильм попеременно показывают то в оригинальной версии, то на французском языке, потащила нас туда на следующий день, и через день, и так далее в течение последующих десяти дней. Мы надеялись, что всех спасет отъезд в Соединенные Штаты. Но надо было знать упорство Эдит, которая, если ей понравились что-то или кто-то, навязывала вам это день за днем. Как только мы приехали в Нью-Йорк, она попросила Константина купить газету и посмотреть, где показывают «Третьего мужчину». Фильм еще не сошел с афиш какого-то кинотеатра в самой глубинке Бруклина. Мы с трудом втиснулись в два такси: «Orson Welles, here we come!» (Орсон Уэллс, мы едем к тебе!) В кинотеатре Эдит, как правило, усаживалась поближе к экрану в окружении своего маленького общества. Я под тем предлогом, что болят глаза, сел в середину зала и, да простит меня Господь, исключительно из-за разницы во времени, уснул. По окончании сеанса, когда Морфей все еще держал меня в своих сладких объятиях, вдруг почувствовал, что кто-то меня немилосердно трясет, и услышал знакомый голос:
– Так, голубчик! Значит, спим! Спим, а не смотрим великий фильм! Это достойно наказания! Так и знай, с сегодняшнего дня я не разрешаю тебе смотреть его, мы будем ходить одни.
Ощущая на себе завистливые взгляды товарищей, я вместе с остальными вернулся в отель.
У Эдит были свои пунктики: например, она могла есть одно и то же блюдо две недели подряд, пить не просыхая, а потом вообще не пить, смотреть по десять раз один и тот же спектакль или фильм, «усыновить» кого-нибудь, проводить с этим человеком все свое время и вдруг забыть о нем и не видеться больше никогда. Эта уличная девчонка научилась знать и любить многое, она имела интуицию и очень верный вкус. Если она высказывала свое суждение или давала оценку чему-то, то всякий раз это были афоризмы, достойные великих. Поскольку она особенно любила симфонии Бетховена в исполнении оркестра под управлением Фуртвенглера, то в день ее рождения я подарил ей запись симфонии, которой у нее еще не было. И тут же начался аврал: «Так, ребятки, сейчас будем слушать великое произведение. Эдди, включай проигрыватель, ты, Лулу, приглуши свет, а вы все кончайте болтать. Мы слушаем». И мы, сидя в полутьме, приготовились слушать великое произведение. Но проигрыватель, должно быть, работал не на той скорости. Через несколько минут наша дорогая Эдит зашевелилась в кресле, словно ей было неудобно сидеть, а затем бросила: «Включи свет, Лулу». Как только появилось освещение, она взяла пластинку, передала ее Лулу и произнесла, ни к кому не обращаясь: «Все-таки этот Бетховен, даже если и ошибался, то ошибался по-крупному».
Механизм запущен
Если вы были неизвестно кем, пришли ниоткуда и неожиданно успех «ухватил вас за фалды», то за этим поворотом судьбы вам грозят две опаснейшие болезни. Первая из них – ощущение себя большой шишкой, которая проявляется в патологических увеличениях самооценки, и, на мой взгляд, она совершенно неизлечима. Вторая – мания величия, от которой жизнь лечит и даже может излечить такими средствами, как падение популярности и многочисленные разочарования. Эпидемия не пощадила и меня, но уроки, извлеченные из нашего семейного прошлого, повлияли на то, что я заразился только манией величия. Однако стремился произвести впечатление не на ближнего своего, а на себя самого. Сначала – покупка старой кузницы и мебели, которую мне выдали за старинную. Затем – «Роллс-Ройса», и не какого-нибудь, а самого красивого и большого, да что я говорю, самого огромного, такого, который едва ли мог протиснуться по улице Юшет, такого, как у английской королевы. Эй, ребята! Я звезда или не звезда, надо быть на высоте, иначе тебя примут за актеришку, выступающего на третьих ролях в концертном зале «Пакра». День ото дня я карабкался все выше. Кроме Дани, бессменного и преданного мне всей душой заведующего постановочной частью, я нанял опытного водителя для «Роллс-Ройса» – Вильяма, говорившего с акцентом жителей Галиции, гувернантку Берджуи, личного секретаря Эдди Казо, а также Анет и Луи, ее – для работ по дому, его– для стряпни. Однажды, обуреваемый внезапной страстью ко всему кавказскому – в конце концов, мои предки были с Кавказа, – я безумно захотел обзавестись лошадьми. И вот мы отправились, как всегда в компании Дани, выбирать прекрасных животных. Дани мгновенно увлекся верховой ездой и очень скоро стал великолепным наездником. Для него моя жизнь была так же важна, как своя собственная, он всегда был готов помочь и успешно справлялся с любым делом. Наши отношения никогда не были отношениями начальника и подчиненного. Скорее, это было дружеское, почти братское взаимопонимание. Для ухода за лошадьми я также нанял Пьера, деревенского парня, которого мы посвятили в конюхи. Мои стол и стойла были открыты для всех, я жил, как падишах. Стоило деньгам появиться, как они тут же исчезали в карманах очередных поставщиков. Я работал и зарабатывал как безумный. С появлением музыкантов-аккомпаниаторов, братьев Рабба, количество выплачиваемых мной зарплат достигло десяти, не считая пособия бывшей супруге. И тогда передо мной встал выбор: окончательно увязнуть в долгах или проявить благоразумие и вести себя более сдержанно. Я выбрал второе…