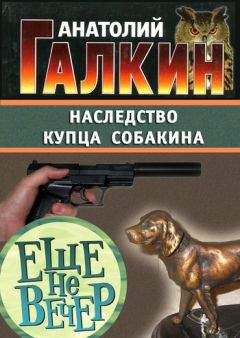«Если вам понадобится усилить мои права на чин, не забудьте, что в 1905 году я был членом предсоборного присутствия, созванного под председательством первоприсутствующего митрополита Антония (Вадковского)», – радостно и как-то сконфуженно заметил Тихомиров.
Уже подходя к двери кабинета, я напомнил ему о необходимости прислать мне формуляр и вскользь спросил, давно ли он состоит в чине статского советника и сколько у него лет государственной службы. Тихомиров весь съежился и сразу потускнел. «В том-то и дело, что у меня нет никакого чина и на государственной службе я никогда не состоял. Вот оно горе в чем». Растерянный, он стал каким-то цветным платком вытирать крупные капли пота, выступившие на его веснушчатом, покрасневшем лице. «Вы, вероятно, не знаете, кто я в прошлом, иначе для вас многое стало бы ясным». Я подтвердил свое неведение. Тихомиров продолжал: «Вас многие ждут в приемной, а мне хотелось бы поговорить с вами по душам часа два-три, и притом неофициально; как бы это устроить?» Я пригласил его в тот же день вместе пообедать.
К восьми часам вечера Тихомиров приехал ко мне на Кабинетскую. В этот раз мы расстались с ним в третьем часу ночи, и вот что он мне рассказал: «Я родился в Новороссийске. Отец мой – известный на юге России врач, был женат на польке, рожденной Маркграф. Моя матушка и сейчас жива. Она сухенькая, бодрая старушка, ей около 80 лет, будете у нас в Москве – познакомитесь. В честь моего отца в Новороссийске одна из главных улиц названа Тихомировской. Учился я в Керченской гимназии, вне родительского дома, ибо в Новороссийске тогда гимназии не было. Ведь все это происходило в те времена, когда по морю ходили на деревянных судах. Помню, ребенком во время Крымской кампании мы с матерью шли ночью из Новороссийска в Керчь на какой-то скорлупе без огней, чуть волнами нас не захлестнуло. Бог по милости спас.
В Керченской гимназии я учился в одном классе с Желябовым. Вероятно, вам его имя знакомо. Это один из тех, кто организовал и осуществил цареубийство 1 марта. Желябов был незаконным сыном от крестьянки состоятельного крымского помещика. Я сошелся с ним довольно близко. Гимназию мне удалось кончить успешно, но в Харьковском университете я пробыл недолго: нас обнаружили при размножении революционных прокламаций жандармы. Пришлось бежать, и уже в 1870 году я был в гуще парижских коммунаров и весь отдался революции. Пыла и огня обнаружилось у меня – хоть отбавляй, и кровожадности я был непомерной… Кличку мне дали по нелегальному положению Тигр, – сами понимаете, что это значит. Потом в Женеву переехал и стал уже работать в «центре». В Россию наезжал все чаще и чаще. В 1878 году был у нас в Липецке нелегальный съезд всех активных главарей-революционеров: ночью в лесу собирались и потом распылялись по соседним деревням. Не знаю, что полиция и власти в это время делали, правда, войной все тогда были заняты, – так легко было захватить всех нас, взбаламученных дураков. Я на Липецком съезде был одним из заправил, бил себя в грудь, негодовал на режим, давал советы; намечал план действий; по заграничным директивам настаивал на терроре. С Нечаевым, Перовской, Дагаевым и другими ближе познакомился. Партия народовольцев тогда окончательно сформировалась, и меня выбрали редактором гремевшего крайними требованиями листка «Народная Воля». Слышали, небось: «черный передел», «мы новый, лучший мир построим» и прочую белиберду. В 1880 году по делам партии, в связи с готовившимся цареубийством, я жил в Москве, в меблированных комнатах на Малой Дмитровке под фамилией Демьянович. Документы, конечно, у меня в полной исправности, и законспирирован я был отлично. Боялся только попасться на глаза знавшему меня начальнику охранного отделения Александру Спиридоновичу Скандракову.
Представьте мой ужас, когда в толпе на Петровке я увидал Скандракова, указывавшего на меня какому-то подозрительному субъекту. Я вскочил на случайно проезжавшего мимо меня лихача и в тот же день исчез из Москвы. Перед 1 марта 1881 года я уехал за границу, хотя акт цареубийства я тогда одобрял.
Уже после цареубийства я составил Императору Александру III письмо от «Исполнительного Комитета Народной Воли», датированное 10 марта 1881 года. Происшедшее через несколько лет после этого мое свидание с матерью, которую я давно не видел и горячо любил, совершило во мне перелом, и я стал задумываться над тем, по правильному ли пути шли мои искания, мысли и действия за прожитые годы. Близкое знакомство с революционной средой не могло не разочаровать любого человека, в ком еще не угасли признаки совести, чести, порядочности.
Весь этот мрачный мир состоял в большинстве из неудачников, беспринципных психопатов, истериков, людей порочных, всех и вся ненавидящих, жаждущих безделья, денег и власти и готовых на всякие компромиссы, до службы в охранке включительно.
Идейных борцов, порядочных и честных, среди них можно было сосчитать по пальцам. К этому времени я уже успел убедиться, что почти каждого из моих «товарищей» можно купить за 30 сребреников. У меня стало назревать желание порвать с прошлым, решительно, определенно и навсегда. Я не был способен на двойную игру. Я пересмотрел свои верования и убеждения; много читал, думал, молился. Я не собирался скрывать своего ухода из революции и решил сделать это честно и открыто.
Еще в начале 1888 года я видал приезжавшего в Париж графа Воронцова-Дашкова. Но не для предательства явился я к Воронцову, а для покаяния и просьбы о прощении. Воронцов, барин и вельможа, отнесся ко мне снисходительно, но не серьезно. В середине 1888 года я напечатал в Париже на французском языке отдельным изданием «Исповедь террориста». На русском языке та же брошюра была выпущена под заглавием «Почему я перестал быть революционером?»
Это была бомба, разворотившая до основания революционный муравейник. Никого не называя, я разоблачил подполье, его навыки, приемы, бесчестную игру, вредную тактику, своекорыстие, карьеризм; покаялся в своих ошибках и поставил крест на прошлом, призывая моих б.[ывших] товарищей работать не против государства, а вместе с государством, для народа. После этого обратился к Государю Александру III с просьбой о помиловании и забвении моих грехов, а Воронцову напомнил о свидании с ним в Париже и просил обо мне похлопотать. Одновременно я выехал в Россию. На границе, в Вержболове, я был арестован и водворен на жительство в Новороссийск. Год спустя мне разрешили переехать в Москву, где при Петровском и Грингмуте я стал работать в «Московских Ведомостях» и в «Русском Обозрении» Анатолия Александрова. Я испытывал радостное чувство просветления. Работал не покладая рук и ясно осознал, что для русского народа, глубоко верующего, но стоящего на низкой степени развития, теория о Божественном происхождении власти является мистически необходимой, полезной для его блага и оправдываемой нуждами государства. Вера православная, Помазанник Божий и защитник своего Богом вверенного ему народа Царь и Отечество, – символ Богом хранимой Державы Российской, вот устои, на которых только может крепнуть и развиваться наше государство. Все эти мысли и положения в исторической перспективе, философски обоснованные, вы найдете в моем труде, изданном в 1905 году, «Монархическая государственность»…
Я изложил конспективно и на память все, о чем Тихомиров страстно повествовал мне до глубокой ночи. Многие менее существенные факты и мысли я пропускаю. Но канву разговора передаю точно.
Заблуждавшийся грешник, сознавший свои ошибки, искренне покаялся и сделался убежденным глашатаем того, против чего ранее так легкомысленно протестовал, негодовал, боролся. Он в своей жизни, на самом себе, имел случай сравнить действие вина молодого, неперебродившего, вредного и старого, устоявшегося и полезного.
На основании наблюдений и опыта отдал предпочтение последнему. Своей захватывающей искренностью исповедь Тихомирова произвела на меня сильное впечатление. Передо мной был человек незаурядный и, несомненно, талантливый. Как-то неудобно было после всего выслушанного, столь неожиданного и необычного, спускаться на землю и заговаривать о том, что привело его к знакомству со мной.
Мы условились, что он зайдет ко мне в департамент дня через два. Расставаясь с Тихомировым, я все же не удержался и попросил его рассказать мне что-нибудь о Желябове. Надевая пальто и покашливая, он с хитрой усмешкой произнес: «Эх, эх! Кто перед Богом не грешен, а перед Царем не виноват!»
Долго думал я над тем, как исполнить желание Столыпина и удовлетворить суетность земных достижений покаявшегося террориста. Я составил проект всеподданнейшего доклада министра внутренних дел Государю, где, упомянув о литературно-публицистических заслугах Тихомирова перед российской государственностью, отметил, что такой полезной, неустанной деятельности он отдал свыше 20 лет своей жизни. Эти 20 лет напряженной работы министр считал справедливым просить Государя зачесть Тихомирову в срок выслуги на чинопроизводство.