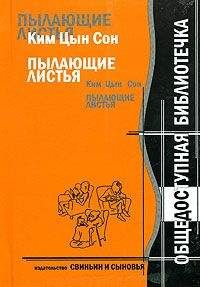Потом в книжке Этель прочту: «Нам придется ехать самим, Нина остается». (О приехавшей за ними Лейли Ыунапуу они просто забыли!) Я оставалась, потому что оставались Тамара, Володя Николаев, Спец, Карл Хеллат и Лембит Рейдла. И еще потому, что надо было вскоре закрывать лагерь, отправлять имущество — посуду, одеяла, постельное белье, форменную одежду в Крым, в освобожденный Артек. Были еще разные причины. Мы, оставшиеся, уедем зимой, в пятидесятиградусный мороз. А пока жара, степная пыль и чувство глубокой тоски и тревоги. К счастью, предчувствия оказались напрасными, комсомольцы наши добрались до Ленинграда, закончили курсы в Пушкине, вернулись домой; все родственники были целы и невредимы. Но ведь тогда мы ничего этого не предполагали, и возвращение домой было для них первым самостоятельным шагом — шагом в неведомое…
Долгие проводы — лишние слезы, — наконец говорю я себе, и им:
— Все, ребята, я возвращаюсь.
Ланда молча кивнула, села в телегу, остальные пообнимали меня, Володя Николаев хлестнул конягу, я осталась стоять в облаке пыли, и оттуда, из облака, услышала густой рёв — так в детстве плакала Этель. Этель… Теперь товарищ по профессии, верный друг, любительница путешествий, синеглазая красотка с прозвищем «Сыбер Юссь» («Приятель Юссь»), непременная активистка всех наших встреч, концентрат эмоций. Телега удалялась, рев становился все гуще, я кинулась вслед, крикнула Володе «стой!», «замолчи, Этель!», потом повернулась и побежала в лагерь.
Честное слово, это был один из ужасных дней в моей жизни. С чувствами, прямо пропорциональными радости наших теперешних встреч.
Надо сказать, что как у Этель, так и у меня отъезды никогда не обходились без приключений. Они уехали, я услышала, как они запели «Везут, везут ребят», и звонче всех пела та же Этель, я раскисла от горькой обиды — ну вот, только что плакала, а теперь с песней помчалась навстречу новой жизни, а я тут застряла с разбитым сердцем. Одна. Я даже забыла оставшихся эстонцев, про мой поредевший смешанный отряд, и плелась едва-едва. Перешла мостик, увидела Тамару — сама уже вожатая, она встречала меня со своим младшим отрядом. Грустно спросила:
— Проводила?
Я молча кивнула, поискала своих пионеров, не нашла никого и пошла на речку, там мы с ребятами сделали весной запруду и маленький бассейн, в котором в середине лета, когда ледяная горная вода прогревалась, можно было купаться. Решила я поплавать, смыть пыль провожания и горечь разлуки. В бассейне купалась Роза Шерф, худенькая небольшого роста девочка из Белоруссии. Если бы не Роза! Я, слегка поплавав, почему-то вдруг стала тонуть, Роза вытащила меня за волосы и долго извинялась за непочтительный способ спасения. На берегу испуганная девочка вытирала меня своим полотенцем, а я, пофыркав и представив себе со стороны весь комический драматизм моей гибели в ямке глубиной в два метра и шириной в четыре и видя виноватое Розино лицо, вдруг стала хохотать и никак не могла остановиться. В самом деле — надо же было пройти всю войну и ни разу не заплакать, не погибнуть под бомбами, не пропасть в военных водоворотах — и вдруг так распуститься, разлуки-то всего на полгода!
Есть такой тип характера — человек в горе молчит, а от радости плачет. К этому типу отношусь и я. В первые дни войны да вот в те проводы ребят е Алтая глаза у меня были на мокром месте в порядке исключения. Но зато через два дня, 26 июля 1944 года мы с Тамарой обнимались и плакали в голос, а вокруг нас в бешеном танце носился Володя Николаев — освободили Нарву!
Я окажусь в Нарве через полгода — в феврале 1945. Выйду из поезда в туманный рассветный час, остановлюсь на платформе оторопело: города нет. Груда развалин, покрытых свежим сырым снегом. Ни домов, ни улиц — чудовищный, страшный, неземной пейзаж. Только кирпичный православный собор у вокзала уцелел. Пробую по нему ориентироваться — в растерянности не могу сообразить — куда же мне идти, хоть бы на развалины гимназии взглянуть. Да как пройти среди таких развалин? Вдруг вижу на снегу цепочку следов — кто-то прошел все-таки! И явно незадолго до меня, снег еще не успел замести следов. Иду по следу. В памяти смутно проступает уже несуществующий мой город — бело-розовые фронтоны в стиле барокко, толстостенные средневековые готические дома, запах кондитерской на Вышгородской улице. Память совершенно отшибло — не могу вспомнить больше даже названий улиц моей юности, не могу плакать, не могу одолеть боль. Иду по чьим-то чужим следам. Вижу — вдалеке фигура в военной форме, спешу навстречу — может быть, этот кто-то знает что-нибудь, может быть, расскажет. Военный идет мне навстречу все быстрее, бежит, полы шинели — вразлёт.
— Нина!!
— Неужели это ты, Геня, живой?!
Так встретилась я с единственным уцелевшим из моих довоенных друзей. Он взял меня за руку, довел до сохранившегося гимнастического зала нашей гимназии, там был госпиталь, а в госпитале медсестрой работала моя одноклассница Тася Иванова.
Почему же безрадостной вышла наша встреча? Не потому ли, что у ног мертвым лежал наш город и где-то на огромных просторах разбросаны могилы наших друзей? jКизнь никогда не обделяла меня надежными, любящими и любимыми друзьями. Только война отняла самых близких, и мне не забыть их…
… 12 января 1945 года я с последней группой эстонских ребят, покинула Белокуриху. Развернув фантастическую деятельность и проявив недюжинный авантюризм в Новосибирске, забитом уезжавшими из эвакуации пассажирами, воинскими поездами, эшелонами с танками и самолетами, я усадила ребят и, естественно, сама уселась в первый же идущий на Москву состав. Те, кто в 1945 году возвращался из эвакуации на запад, не поверятпотому что ждать отправки приходилось неделями, но уж это так было, здорово мы извернулись с помощью комитета комсомола железнодорожного узла! Посадка наша была неповторимой: Спец сконструировал в Белокурихе деревянный велосипед и теперь непременно хотел довезти его до дому.
— Спец! Выбрось этот кошмар! — кричала Тамара.
— Выбрось, Спец, ты же видишь, людям места нет! — упрашивали Мульк, Карл, Володя.
Спец пыхтел и пропихивал велосипед в опущенное — на пятидесятиградусном морозе! — окно. Спец пропихивал снаружи, а я уже внутри вагона молча изо всех сил пыталась втянуть громадные толстые колеса: я же понимала, как Спецу было жаль расставаться с уникальным творением собственных рук.
— Тяни, Нина, тяни, если сломается, опять соберу, — бормотал Спец. Мы мучались с колесами, а остальные поспешно грузили в вагон наш багаж. Велосипед мы, разумеется, сломали, и что с ним было дальше — не помню. Кажется, там, в Новосибирске, и выбросили.
Потом, разместив ребят, я влезла на третью полку и до темноты смотрела, как убегают назад морозные снежные равнины Сибири.
— Прощай, Алтай, спасибо и прощай! — неотвязная ехала со мной мысль. Долгой была разлука. Я приехала в Барнаул в командировку только тридцать шесть лет спустя. За эти годы, невзрачный, еще в войну хранивший черты былой губернской провинции городок стал совершенно иным — светлым, в зелени, цветах и фонтанах, с прекрасным памятником Ивану Ползунову — самородку-металлургу старых демидовских заводов, со сказочными деревянными детскими игровыми городками во дворах. За широкими витринами магазинов просматривались хорошие товары, у современного здания театра, у фонтанов светлым вечером в антракте гуляли барнаулочки в длинных вечерник платьях. И по-старому приветливы и душевны были сибиряки — в гостинице, в аптеке, в магазине, в кино, на вокзале, в кассе предварительной продажи билетов… Солнце было горячим, воздух сухим и теплым…
В гостинице я разыскала номер телефона Дворца пионеров, и уже вечером того же дня пришли ко мне «искрята». «Искорка» — так в 1974–1975 годах назывался пионерский штаб розыска артековцев военных лет, артековцев, живших на Алтае. Нас разыскивали в связи с пятидесятилетием Артека. Конечно, о нас на Алтае забыли за тридцать с лишним лет — ведь жили-то мы всё время на одном месте. Учились, работали, и не до экскурсий нам было в войну — никто из нас не побывал ни на Чемале, ни на Телецком озере, никто не проехался по Чуйскому тракту. Сверстники разъехались, белокурихинские старожилы, когда-то свыкшиеся с нами, не придавали воспоминаниям особого значения — мало ли людей перебывало в эвакуации в Белокурихе! Пришлось «Искорке» обратиться к первоисточнику, то есть — к нам. Полетели письма из Барнаула в Эстонию, Латвию и Литву, в Белоруссию, Молдавию и на Украину. Мы откликнулись не сразу — за исключением Этель и Ланды, они-то, конечно, тотчас написали. Я была занята разъездами по дальним странам — подряд вдруг посыпались на меня командировки в Монголию, Чехословакию, в Польшу и даже на Кубу — где уж тут до Белокурихи или до Барнаула!
Но однажды пришло письмо — на бланке с языками пионерского костра, с пионерским значком и штампом «Искорка».