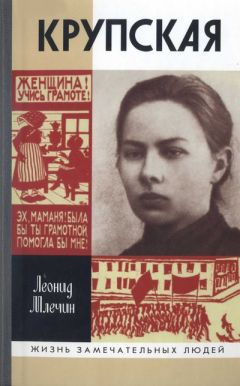В июне 1916 года работа «Империализм, как новейший этап капитализма» была завершена. Пожалуй, главная трудность заключалась в том, чтобы уложить собранный материал в рамки пятилистной книжки, сохраняя при этом легальность и популярность жанра. И когда издатели, вопреки прежней договоренности, потребовали — по примеру других брошюр — сократить объем работы до трех листов, Владимир Ильич отказался. «Весь материал, план и большая часть работы, — пишет он Покровскому, — были уже окончены по заказанному плану на 5 листов (200 страничек рукописных), так что сжать еще раз до 3-х листов было абсолютно невозможно… Подзаголовок "Популярный очерк" безусловно необходим, ибо ряд важных материй изложен применительно к такому характеру работы… Изо всех сил применялся к "строгостям" [цензурe]: трудно для меня это ужасно, чувствую, что неровностей тьма из-за этого. Ничего уж не поделаешь!»25
2 июля он посылает рукопись заказной бандеролью Покровскому во Францию. И как раз именно в это время болезнь Крупской, ее, как она выражалась, «базедка», вновь обострилась и надо было немедленно ехать в горы. Буквально через несколько дней они отправились в кантон Сен-Галлен, неподалеку от Цюриха, и поселились километрах в восьми от станции Флумс, в доме отдыха Чудивизе, совсем близко к снежным вершинам.
«Дом отдыха, — вспоминала Надежда Константиновна, — был самый дешевый, 2½ франка в день с человека… Утром давали кофе с молоком и хлеб с маслом и сыром, но без сахара, в обед — молочный суп, что-нибудь из творога и молока на третье, в 4 часа опять кофе с молоком, вечером еще что-нибудь молочное. Первые дни мы прямо взвыли от этого молочного лечения, но потом дополняли его едой малины и черники, которые росли кругом в громадном количестве.
Комната наша была чиста, освещенная электричеством, безобстановочная, убирать ее надо было самим и сапоги надо было чистить самим. Последнюю функцию взял на себя, подражая швейцарцам, Владимир Ильич и каждое утро забирал мои и свои горные сапоги и отправлялся с ними под навес, где полагалось чистить сапоги, пересмеивался с другими чистильщиками и так усердствовал, что раз даже при общем хохоте смахнул стоявшую тут же плетеную корзину с целой кучей пустых пивных бутылок»26.
Они много гуляли по горным тропам. Владимир Ильич обговаривал свои статьи, а потом садился и записывал их. Самочувствие Надежды Константиновны значительно улучшилось, и они уже думали о возвращении в Цюрих. Но пришло печальное известие…
25 (12) июля 1916 года, на даче в Больших Юкках, близ финской границы, на руках у Анны и Марии, на 82-м году жизни скончалась мать — Мария Александровна Ульянова. Тело ее перевезли в Петроград и похоронили рядом с могилой дочери Ольги. Гроб несли Марк Елизаров и Владимир Бонч-Бруевич. Владимир Ильич наверняка вспомнил, как за четверть века до этого, 10 мая 1891 года, он шел за гробом Ольги, поддерживая под руку тихую, натянутую, как струна, мать. Они шли «молча, опуская глаза, подавленные до последней степени нелепостью, дикостью, бессмысленностью утраты… Просто как-то не верилось самому себе [точь-в-точь как не веришь самому себе, когда находишься под свежим впечатлением смерти близкого человека]… Когда идешь за покойником, — писал тогда Владимир Ильич, — расплакаться всего легче именно в том случае, если начинают говорить слова сожаления…»27
Вот и теперь, получив известие о смерти матери, он не стал никому сообщать об этом. Ему не хотелось слушать ни слов сожаления, ни слов сочувствия. Владимир Ильич написал лишь два письма сестрам в Питер и «видно было, — вспоминала Анна Ильинична, — какая тяжелая это была для него утрата, как больно он ее переживал и сколько нежности проявил к нам, тоже подавленным этой кончиной»28.
Психологи знают — наилучший выход из стрессового состояния дает работа. Поэтому в Цюрих решили пока не возвращаться, а остаться здесь — в Чудивизе. «В доме отдыха, — пишет Крупская, — где цена за содержание 2½ франка с человека, "порядочная" публика не селилась». А от швейцарских трудяг, с их сдержанностью и тактом, можно было не опасаться ни досужих расспросов, ни навязчивых собеседников.
И опять они бродили вдвоем по безлюдным горным тропам. И вновь он обговаривал свои статьи. Потом, вернувшись, садился к окну и убористым почерком записывал их. Дом был старый, деревянный, со скрипучими ступеньками. А под окном, по вечерам, «хозяйский сын играл на гармонии и отдыхающие плясали во всю. Часов до одиннадцати раздавался топот пляшущих»29. Но беспокоило совсем не это…
В августе Юрий Пятаков, которому в те дни исполнилось 26 лет, прислал статью «Пролетариат и "право наций на самоопределение…"». Владимир Ильич был рад, когда Пятаков и Евгения Бош, бежавшие из сибирской ссылки через Японию и США, в феврале 1915 года появились в Берне. Вместе с Лениным «японцы» стали издавать журнал «Коммунист». Но вскоре стало очевидным, что по ряду вопросов их позиции расходятся. Началось выяснение отношений. И присланная Пятаковым статья показала, что «молодые» абсолютно не воспринимали критики, а часто и не вполне понимали ее. «Говорим мимо друг друга»30, — заметил Владимир Ильич. Было в этом что-то от молодости, но гораздо больше — от теоретического дилетантизма.
Если суммировать статьи и письма Ленина и его оппонентов, то суть разногласий состояла в следующем…
То, что в империалистическую эпоху рамки демократических свобод, как правило, суживались — признавали обе стороны. Используя экономическую зависимость и придавленность массы населения, буржуазия умело манипулирует голосами избирателей. Добиваясь необходимых ей решений, она — и прямо и косвенно подкупает государственных чиновников и само правительство, проституируя тем самым все и всякие «права человека».
Никто не отрицал и того, что в начале XX столетия под видом «защиты отечества» ведутся, как правило, войны за передел сфер влияния. И уж тем более все понимали, что за тягой угнетенных народов к самоопределению зачастую скрывалась эгоистическая политика национальной буржуазии, стремление к стравливанию различных национальностей, а также мещанское убеждение в том, что «наши клопы — лучшие в мире!»
Но значит ли это, как полагал Пятаков, что из факта «неосуществимости» полной демократии в эпоху империализма вытекает отрицание демократии как таковой? Что из факта корыстности национальной буржуазии вытекает отрицание борьбы за самоопределение наций? И значит ли, что понимание сути происходящей империалистической бойни ведет к отрицанию всяких войн вообще? На все три вопроса Ленин дает отрицательный ответ. Он решает опубликовать статью Пятакова в «Сборнике "Социал-Демократа"» № 3, сопроводив ее своей статьей «О карикатуре на марксизм и об "империалистическом экономизме"».
«"Революционной социал-демократии, — пишет Ленин, — никто не скомпрометирует, если она сама себя не скомпрометирует". Это изречение всегда приходится вспоминать и иметь в виду», когда на то или иное теоретическое положение марксизма, «кроме прямых и серьезных врагов "набрасываются" такие друзья, которые безнадежно его компрометируют — по-русски: срамят — превращая его в карикатуру»31.
Проблема Пятакова — непонимание диалектики жизни. «Он хочет отрицание защиты отечества превратить в шаблон, вывести не из конкретно-исторической особенности данной войны, а "вообче". Это не марксизм»32. Ленин поясняет: «Войны вещь архипестрая, разнообразная, сложная. С общим шаблоном подходить нельзя». Он уточняет: «Мы вовсе не против вообще "защиты отечества", не против вообще "оборонительных войн". Никогда этого вздора ни в одной резолюции (и ни в одной моей статье) не найдете. Мы против защиты отечества и обороны в империалистической войне…»33
Если с обеих сторон, как это было в древности между Римом и Карфагеном, а теперь — между Англией и Германией, целью войны является грабеж: борьба за колонии, за рынки и т.п., тогда отношение к войне подпадает под правило: если «2 вора дерутся, пусть оба гибнут»34. А чтобы спасти от неизбежной гибели в такой войне миллионы людей, необходимо повернуть оружие против зачинщиков этой бойни. Против правительства своей страны.
В нашей нынешней «исторической публицистике» довольно часто (иногда по незнанию, но, как правило, по умыслу) подменяют «поражение своего правительства» — «поражением России». Между тем, «поражение правительства», а проще — его свержение означает совершенно иное.
Даже из школьного курса истории известно, что «поражение правительства», т.е. свержение короля в 1793 году во Франции стало прологом к триумфальному шествию революционной французской армии по Европе. Да и Гучков с офицерами-заговорщиками, намеревавшийся осенью 1916 года добиться насильственного отречения Николая II и отставки его кабинета, тоже полагал, что это предотвратит поражение России.