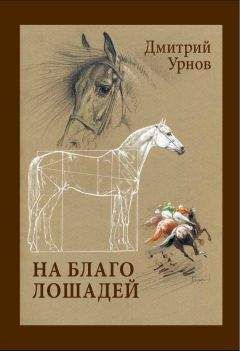— Родные места! — засмеялся Драгоманов. — Знаешь, Кормилец и Сан-Клу в этом году узнал. Вот память! Лошадиной силы. Особенно ему там парк нравится, я заметил. С видимым удовольствием по нему на проводке гуляет. Парк хороший, что и говорить.
Было, однако, холодно. Из Парижа мы выехали +15, а тут мороз градусов двадцать. Солярка, на который шел наш автобус, замерзала на стоянках.
— Парк в Сан-Клу при ипподроме хороший, — продолжал Драгоманов, — дренаж, водоемы, по охоте все сделано…
Хлопая руками, чтобы согреться, он прошелся перед автобусом.
— А какой у нас ипподром специально для скачек можно сделать!
Тут я сказал про себя: «Хотя ты и кавалерист, а все-таки наш брат, скаковик».
У каждого из тех, кто судьбой связан с конем, свой идеал. Драгоманов, например, руководит скачками. Но недаром же поет он: «Они ехали долго в ночной тишине…» Недаром же, когда поет он это, он плачет, а потому, хотя он и руководит скачками, ему рисуются призовые скакуны, все же напоминающие чем-то кавалерийскую ремонтную лошадь. А я… я, когда о лошадях думаю… Хотя трудно сказать, когда я о них не думаю! Но когда думаю я о них в ясные минуты, когда не заботы конюшни, не завтрашний пробный галоп или приз в голове, а мечта, тогда вот вижу я белую дымку, небо, горы, пастбища, табун. Если это табун молодняка, то визг, беготня, игра. А если представишь себе маток с жеребятами, то чинный порядок, тишина, только речка горная шумит, и кобылы изредка окликают своих малышей.
Мы тронулись в дальнейший путь. Драгоманов опять улегся на сене и продолжал мечтать вслух:
— Разбить дорожки, посадить деревья, сделать новую скаковую аллею…
За окном автобуса бежали замерзшие, но еще не укутанные снегом поля: самый щемящий сердце вид.
— Ты вот не помнишь, — говорил Драгоманов, — а я мальчишкой застал прежний ипподром. Ведь, в сущности, это был целый город! Тренировались в Петровско-Разумовском парке, купать ездили на Фили, конюшни стояли по всей Башиловке. Ипподром, им ненавистный, лошади видели только в день скачек, внимание у них рассеивалось каждый день новыми впечатлениями.
Анилин вздохнул, будто и он понимал наш разговор.
— Почему Кормилец полюбил парк в Сан-Клу? Потому что там он отвлекается и забывает ипподром. Он гуляет, публику рассматривает и, главное, знает: уж скакать сегодня не придется!
Драгоманов поднялся, подошел к жеребцу, заглянул к нему в кормушку и, почесывая ему шею под гривой, говорил:
— Классной лошади надо создать человеческие условия. Приедем, доложу маршалу, что без теплых конных душей обходиться на конюшне больше нельзя. Не то время! А какие трибуны из новейших материалов можно сделать! Ты вот не помнишь старую трибуну, а сколько в ней было воздушности, какой полет, какая легкость! Миша плакал, когда она сгорела. А потом что построили? Я из заводов вернулся, спрашиваю: «Миша, что это?» Ведь из судейской последнего поворота не видно. Публика из конца в конец мечется, чтобы скачку посмотреть. Колонны, колонны… Нет, я мечтаю о таком козырьке на ипподроме, как в аэропорту Шереметьево или как в Орли. Но попробуй я об этом заикнуться, начнут мне говорить: «А путевок в Гагры вашим лошадям не нужно? Или, может быть, однокомнатные квартиры с не совмещенным санузлом им предоставить?»
Мы сделали еще одну остановку и вышли вместе с жеребцом на шоссе. Через дорогу, видимо, из деревни, стоявшей вдоль шоссе, погнали небольшой табунок лошадей. Они прошли совсем близко от нас. Однако Анилин хотя и смотрел на них, но даже не заржал, словно это были животные какой-то другой породы, вовсе не лошади. Раза два он повел ушами, а потом поставил их стрелками, и сам подобрался, и встал на фоне неба, как перед фотографом.
Табунщик наглядеться не мог.
— Ах, конь! И я один раз в жизни видел такого коня.
— Такого, отец, — сказал ему Драгоманов, — можно всю жизнь прожить и ни разу не увидать. Я вот тоже до седин дожил и насилу такого дождался.
— Нет, нет, я видел!
— Где же?
— В плену. И он пленный был. Сам рыжий, как этот вот, здесь бело…
— И здесь бело? — спросил Драгоманов, указав на правую заднюю выше бабки.
— Точно. Его откуда-то от нас гнали.
— Восточная Пруссия?
— Точно. Город Инстербург. А как они его оберегали, даром что пленный. Попоной накрыли, а мы дрожим. Специальный конвой, генерал смотреть приехал и говорил все время: «Sehr gut… Sehr gut…» И еще все время что-то говорили: «Göring… Göring…»
— Хотели его поставить в конный завод Геринга в Инстербурге, — пояснил Драгоманов. — Кажется, поставили, но куда потом он канул и было ли от него потомство, а если было, то где оно, — это, брат, вопрос не легче янтарной комнаты!
— Ты, видно, об этом коне слыхал…
— Если бы ты, дед, знал, кого ты видел!
— Я и царя видал! — обиделся табунщик.
— Ах, что царь… Помню, Миша, не наш Миша, а Громов Михаил Михайлович, летчик, но тоже наш брат, лошадник, в эскадрилье держал Диану, от Дарвина и Дикарки. Война, бои, вылеты каждый день. А он прилетит, фонарь откинет и спрашивает: «Проела?» Кобыла корм плохо проедала: кругом стрельба, нервы, обстановка, конечно, не для чистокровной лошади. Ведь, казалось бы, смерть нависает, что тут о кобыле думать! А Миша говорил: «Самолет еще такой же сделают, а Дианы другой у меня уже не будет». Действительно, кто мог подумать, что от Дикарки, скакавшей бесцветно, получится такая прелесть! Ведь это века работы: ползком продвигалась природа, и вдруг — на тебе! — дала.
— Куда?! — вдруг панически закричал дед-табунщик и со свистом бросился догонять свой табун.
Москва встретила нас карантином. Уже за Смоленском попалось нам слово «ящур». Стояли заслоны, возле которых приходилось останавливаться, вылезать и топтаться ради профилактики на известковой подстилке. Анилину все это надоело — и дорога, и остановки. Он повесил голову. Драгоманов не находил себе места. «Колики бы не начались!» — стонал он, словно его самого уже схватили колики. А за Вязьмой нас вовсе хотели остановить и высадить для проверки.
Ветврачи, санитары и милиция окружили фургон. У меня уже не хватало терпения, и я разругался с ними. «Давай, кто у вас главный», — требовал карантинный надзор.
Я ожидал, что сейчас из дверей фургона явится Драгоманов, нет, не явится, а вылетит с таким видом, как кричал он когда-то «Шашки наголо!» или «Руки вверх!». Будут знать, как привязываться.
Драгоманов вышел и сказал:
— Добрый день, товарищи!
Он не только дал себя уговорить, но даже сам охотно отправился для обсуждения всех условий в контору.
Вошли, Драгоманов опять всем сказал «здравствуйте», хотя в ответ и головы никто не поднял. Но вот Драгоманов вдруг останавливается, идет к секретарше и в два счета, как фокусник, цепляет ей на грудь наш скаковой значок. Потом два шага отступил и смотрит, что получилось. Значок простой: головка лошадиная и надпись — СССР.
— С таким значком, — сказал ветврач, — куда хочешь пустят.
— Во всяком случае, на любой ипподром в любой день, — добавил Драгоманов.
— Что же мне на ипподроме делать? — засмеялась секретарша. Но, видно, заинтересовалась, и вообще драгомановский подарок ей понравился.
— Как что? Придете к нам в день больших призов. Сколько публики! Генералы, маршалы, министры… Найдете себе жениха…
— У нее есть жених! — закричало сразу несколько голосов.
— Хорошо, — не унимался Драгоманов, — выберете себе лошадку, сделаете ставку и выиграете…
Тут уж тишина наступила мертвая.
— Как же это так? — едва слышно выговорил кто-то.
Драгоманов, видно, понял, что вожжи у него в руках. Стоя посредине комнаты, как памятник Котовскому, он сказал стихи, которые каждый из нас знает наизусть: жокей писал.
Полны трибуны. Флаги реют.
И марш торжественно звучит,
И солнце, что ни миг, щедрее
На землю шлет свои лучи.
Потом он указал на меня:
— Рекомендую, мастер-жокей международной категории Николай Насибов! Вот он выиграл за свою жизнь призов, наверное, на миллион рублей. Не себе в карман, разумеется, а государству. У него глаз точный. Приходите, — обратился он к секретарше, которая уже была под гипнозом, — он вам подскажет верняка, на кого поставить, а я как директор уж посмотрю на это сквозь пальцы ради такого случая!
Никто уж и не вспоминал ни про бумаги, ни про карантин, ни про ящур. Взаимные обиды испарились. Драгоманов окинул взглядом комнату, всех в ней сидящих, и, кажется, встретившись с каждой парой глаз, на него устремленных, сказал:
— Всего вам доброго, товарищи!
Не то под аплодисменты мы выходили, не то на руках нас несли. Мне даже казалось, будто звучит оркестр. Таковы были торжество и восторг. Автобус наш тронулся, все махали вслед. Секретарша, выбежав на мороз неодетой, стояла позади всех, но она готова была прыгнуть с крыльца прямо к нам в фургон.