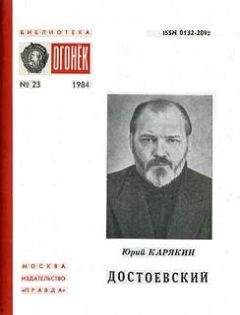Именно такое примирение — вот чем он дышит, вот в чем видит спасение и человека, и России, и всего человечества: «Мысль, все более меня занимающая,— где те пункты, в которых мы могли бы все, разных направлений, сойтись?»
Но еще раз подчеркну — не забудем о нем и такое (он сам не забывал): «Самое несносное несчастье, это когда делаешься сам несправедлив, зол, гадок; сознаешь все это, упрекаешь себя даже и не можешь себя пересилить. Я это испытал». Не забудем: «А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная: везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил. Бес тотчас сыграл со мной шутку». И тут меньше всего идет речь о вещах «бытовых» (во втором случае — об игре в рулетку). Нет, тут моменты мировоззренческой нетерпимости («везде-то и во всем»).
Зато какие слова он находил, когда одолевал себя: «И чего мы спорили, когда дело надо делать! Заговорились мы очень, зафразировались, от нечего делать только языком стучим, желчь свою, не от нас накопившуюся, друг на друга изливаем, в усиленный эгоизм вдались, общее дело на себя одних обратили, друт друга дразним, ты вот и отстал, ты вот не так общему благу, а надо вот так, я-то лучше тебя знаю (главное: я-то лучше тебя знаю). Ты любить не можешь, а вот я-то любить могу, со всеми оттенками,— нет, уж это как-то не по-русски. Просто заболтались. Чего хочется? Ведь, в сущности, все заодно. Нашу же сами разницу выводим, на смех чужим людям... ведь только чертей тешим раздорами нашими!»
Потрясающие, бесценные, спасительные слова — вспышка пушкинского света! Слова, безоговорочно подкупающие своей искренностью, признанием своего «усиленного эгоизма», страстью и мудростью одновременно,— вот истинное просветление. Но цена? Цена! А если дело, которое надо делать,—спасение человечества от самоубийства?
Вспомним вдохновенное слово Достоевского о толстовской сцене примирения у постели умирающей Анны Карениной: «Эти мелкие, ничтожные и лживые люди стали вдруг истинными и правдивыми людьми, достойными имени человеческого,— естественною силою природного закона, закона смерти человеческой. Вся скорлупа их исчезла и явилась одна их истина... гениальная сцена...»
Не подобную ли сцену, может быть, самую, самую героическую, в истории рода человеческого и предстоит теперь людям сыграть в жизни, для спасения жизни, для победы над смертью?
Не потому ли сейчас и открываешь заново: «Ведь был я же сегодня у смерти три четверти часа, прожил с этой мыслью, был у последнего мгновения и теперь еще раз живу!.. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья».
Не потому ли, как никогда, становится ясно: «...Эта живая жизнь есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на нас смотрящее, что именно из-за этой-то прямоты и ясности невозможно поверить, чтоб это было то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем... Самое простое принимается лишь всегда под конец, когда уже перепробовано все, что казалось мудреней или глупей».
И еще: «Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь... Понимаешь ли ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет? — засмеялся вдруг Иван.
— Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить — прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется,— воскликнул Алеша.— Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.
— Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?
— Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде логики и тогда только я и смысл пойму».
И, конечно, Пушкин:
Друзья мои, прекрасен наш союз!..
А еще:
И речка подо льдом блестит...
И этому всему не быть? Не скажут люди: были у последнего мгновения и теперь еще раз живем?
«Люблю жизнь для жизни...»
Давно, лет двадцать назад, я впервые прочитал такое признание Достоевского: «...несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо, люблю жизнь для жизни и, серьезно, все еще собираюсь начать мою жизнь. Мне скоро пятьдесят лет, а я все еще никак не могу распознать, оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. Вот главная черта моего характера; может быть, и деятельности».
Тогда же я обратил внимание на то, что есть черновой, опубликованный в 4-м томе писем Ф.М.Достоевского, вариант этой записи (в альбом одной женщине) и что по нему видно, как Достоевский работает над этими словами, чеканит их, стало быть, придавая им особое значение. Не есть ли это его жизненное и эстетическое кредо?
Слова эти мне полюбились, я невольно запомнил их наизусть и часто (устно и письменно) цитировал — особенно в ответ на очень распространенные тогда суждения о «мизантропии», «пессимизме» Достоевского. Тогда же я только-только начал понимать, что, например, «Бесы» и «Бобок» — произведения сложные, их нельзя оценивать однозначно, и когда встречался с отношением к ним как к беспросветно-черным картинам, я опять-таки вспоминал полюбившиеся мне слова. Выходило: да, мол, здесь он, Достоевский, такой, зато вот там...
Совсем недавно, сосредоточившись на «Бесах», я составил себе календарь, связанный с историей этого романа, и вдруг впервые дал себе отчет в смысле кое-каких дат.
«Бесы» (вернее — последние главы романа в «Русском Вестнике») вышли в ноябре—декабре 1872 года, отдельным же изданием — в 20-х числах января 1873-го.
«Бобок» помечен: 5 февраля 1873-го же.
А та светлая, солнечная, мужественная запись сделана 31 января 1873-го же!
Представим: «Бесы» только легли на стол Достоевского, критика их уже поносит («болезненное произведение»). «Бобок» — в рукописи, может быть, рядом с «Бесами», во всяком случае, в голове, и выйдет через четыре дня. А он в это же самое время пишет такое...
Но, может быть, это случайное высказывание? Или самооправдание? Или: просто один и тот же человек в абсолютно разных состояниях говорит то одно, то другое, прямо противоположное? Для многих мыслей-страстей Достоевского, для многих оценок его — это закон. Но здесь закон — другой, закон поразительно постоянный, ни разу не нарушенный. Посмотрите его письма, заметки за сорок лет. Посмотрите их в свете записи 31 января 1873-го, а эту запись — в свете всех писем, заметок.
Да, были у него страшные минуты отчаяния (и не раз и не два). Подивимся на тех, у кого их не бывает. Но, что бы ни было, лейтмотивом у него звучит: планы, планы, работа, работа и — неистребимое жизнелюбие. Лишь несколько выписок.
Юношеские, молодые записи я опускаю, но еще раз напомню его состояние в роковой день 22 декабря 1849-го: «Брат! Я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да! правда!.. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте».
Это после Семеновского плаца, а на самом плацу, перед казнью он рассказывает другу о замысле нового произведения... Он и в мертвом времени, для него мертвом,— творил.
Таким и остался и на каторге, о которой писал: «Я был похоронен живой и закрыт в гробу».
Итог каторги: «...В несчастьи яснеет истина».
18 октября 1855-го: «Мне кажется, что счастье — в светлом взгляде на жизнь и в безупречности сердца, а не во внешнем. Так ли?»
19 января 1856-го, из Семипалатинска: «...выйдя из моей грустной каторги, я со счастьем и надеждой приехал сюда. Я походил на больного, который начинает выздоравливать после долгой болезни, и быв у смерти, еще сильнее чувствует наслаждение жить в первые дни выздоровления ».
22 февраля 1857-го: «А не терять энергию, не упадать духом — это главная потребность моя».
9 марта 1857-го: «В будущее же я как-то слепо верую. Только бы дал Бог здоровья. Удивительное дело: из тяжкого несчастья и опыта я вынес какую-то необыкновенную бодрость и самоуверенность».
9 октября 1859-го, из Твери: «Жизнь моя здесь ужасна... Не понимаю, как еще я не падаю совершенно духом».
28 октября 1860-го: «Не старейтесь никогда сердцем и не теряйте (что б ни случилось в жизни) ясного взгляда на жизнь. Да здравствует вечная молодость! Верьте, что она настолько же зависит от власти времени и жизни, насколько и от нашей».
31 марта 1865-го (после смерти жены, брата, друга): «И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое... Буквально — мне не для чего оставалось жить... Стало все вокруг меня холодно и пустынно... Из всего запаса моих сил и энергии осталось у меня в душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое к отчаянью. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояние и вдобавок один,— прежних и прежнего, сорокалетнего, нет уже при мне. А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошачья живучесть».