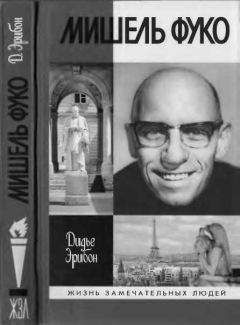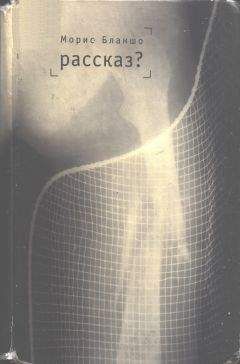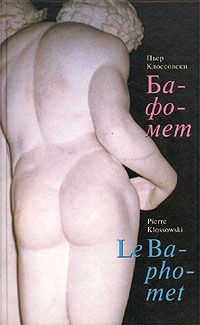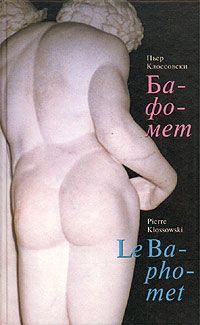Большую часть своего времени Фуко посвящает Институту французской культуры, располагавшемуся в доме 55 по Хайдемер-штрассе. Квартира директора, в которой он провел 1959/60 учебный год, занимала почти весь второй этаж. Кроме директора, в Институте работали четыре преподавателя французского языка. Среди них — Жан-Мари Замб, ставший впоследствии профессором Коллеж де Франс по кафедре немецкой цивилизации, и Жильбер Кан, племянник Леона Брюнсвика[156], который когда-то был связан с Симоной Вейль[157].
Как и в Упсале, Фуко отводит часть времени на то, чтобы позаниматься с небольшой театральной труппой, собранной Жильбером Каном. Именно он предлагает поставить пьесу Жана Кокто «Школа вдов» (премьера состоится в июне 1960 года) и подробно рассказывает об этом писателе нескольким студентам, образовавшим вокруг него своего рода дружеский кружок, в частности Юргену Шмидту и Ирен Стапс, основным актерам труппы.
И конечно же он проводит много времени в университетской библиотеке. Он заканчивает работу над основной диссертацией «Безумие и неразумие» и отправляется в Париж, чтобы отдать ее на прочтение Жану Ипполиту, которого хотел бы видеть научным руководителем. После чего приступает к редактированию дополнительной диссертации: перевода «Антропологии» Канта, к которому он намеревается присовокупить пространное историческое предисловие. Когда обе диссертации приобретут окончательный вид и автор будет готов к тому, чтобы представить их к защите, для него найдется место в одном из высших учебных заведений Франции. Разумеется, место не профессора, поскольку ни одна из диссертаций еще не защищена, но преподавателя-лектора, руководителя семинаров. Предложение пришло из Клермон-Феррана, и Фуко решил прервать добровольную ссылку и вернулся во Францию.
* * *
Больше у него никогда не будет такого поста, где он мог бы заниматься одновременно административной и просветительской деятельностью. Тем не менее несколько раз речь заходила об этом поприще. В 1967 году Этьен Бюрен де Розье, став послом в Риме, позвонил Фуко, находившемуся в тот момент в Тунисе, и предложил ему стать атташе по культуре. Тот легко дал уговорить себя, однако на горизонте замаячил Коллеж де Франс. Немногим ранее, в 1963 году, Фуко согласился возглавить Институт французской культуры в Токио, однако декан факультета Клермон-Феррана умолил министерство не забирать у него преподавателя, благодаря которому процветало его учебное заведение. А через много лет, в 1981 году, когда к власти придут левые, будет обсуждаться назначение Фуко атташе по культуре в Нью-Йорк. Однако переговоры так ничем и не завершатся.
Фуко будет осуществлять миссию «посланника французской культуры», став преподавателем в Тунисе, разъезжая с лекциями по разным странам, а главным образом, благодаря своим книгам, имевшим успех по всем мире.
Он уехал из Франции в 1955 году и был убежден в том, что отныне постоянно будет путешествовать. Более того, он знал, что обречен на скитания. Жить завтра не там, где сегодня — такова идея. Навсегда расстаться с Францией? Возможно, однако следует использовать эту страну, с которой он был в разладе, как стратегическую базу, позволяющую организовывать длительное пребывание в других частях света. В начале 1968 года, приехав в Швецию с лекциями, он скажет в одном из интервью, что в 1955 году, покидая Францию, он твердо решил проводить жизнь «на чемоданах», переезжая из страны в страну и, главное, «никогда не касаться пера»:
«Мысль посвятить свою жизнь написанию книг казалась мне абсурдной, я никогда не имел таких намерений. Только в Швеции, где ночи длятся долго, я подхватил этот вирус и выработал отвратительную привычку писать по пять-шесть часов в день»[158].
В момент отъезда из Франции он чувствовал себя «путешественником, переезжающим из страны в страну, никому не нужным и ни на что не годным». «Я и сейчас ощущаю свою ненужность, — добавляет Фуко (напомню, что идет 1968 год), — с той только разницей, что уже не являюсь путешественником. Теперь я пригвожден к письменному столу»[159].
Мишель Фуко — турист, не помышляющий о сочинении книг? Должно быть, он лукавит, ведь к 1955 году у него уже были публикации. Вместе с тем он пронес через всю свою жизнь убеждение, что, в сущности, не собирался становиться человеком пишущим. Когда он будет работать над последними книгами, продвигаясь с трудом, исполненный сомнений, раскаявшийся и, должно быть, с огромной усталостью и желанием бросить все, эта тема то и дело будет всплывать в его разговорах с друзьями: «Я случайно начал писать. А стоит только начать, как тут же попадаешь в плен, из которого невозможно бежать». Искушение избавиться от этой зависимости было велико. Но легко ли отказаться от роли, которая стала сутью жизни?
Фуко покинул Францию в августе 1955 года. Летом 1960 года он возвращается. Ему еще нет тридцати четырех лет. Что значимого произошло за годы его отсутствия? Прежде всего, значимым было само отсутствие. Фуко пропустил политические события, развернувшиеся в стране: войну в Алжире и приход к власти генерала де Голля. Он остался в стороне от бурной деятельности, развернутой левыми, от создания мощного студенческого профсоюзного движения, от появления в университетской среде течений, не связанных с коммунистической идеологией, от всего того, что приведет страну к кризису 1968 года. Именно во время пребывания Фуко за границей появятся трещины, которые через несколько лет станут причиной разлома в обществе. Но и тогда Фуко не окажется во Франции. В то время, когда Францию сотрясали битвы вокруг войны в Алжире, он жил в Швеции, Польше, Германии. Когда студенческие волнения весны 1968-го сметут социальные, политические и институциональные основы страны, он будет в Тунисе.
Несомненно, значимым было и то, что Мишель Фуко закончил работу над диссертацией «Безумие и неразумие: история безумия в классическую эпоху». Эта работа могла бы называться «Иное безумие», что перекликалось бы с цитатой из Паскаля, открывающей первый вариант предисловия. Но, поскольку речь шла о том, чтобы представить ее к защите, Фуко остановился на более академическом названии.
Первый вариант предисловия начинается так:
«Паскаль: „Люди неизбежно столь безумны, что было бы безумием впасть в иное безумие — не быть безумным“. А вот что пишет Достоевский в „Дневнике писателя“: „Тем, что другого запрешь в сумасшедший [дом], своего ума не докажешь“. Необходимо написать историю подлинного безумия — иного безумия, благодаря которому люди, запирая соседей волею высочайшего разума, узнают друг друга и общаются при помощи не знающего пощады языка не-безумия; нащупать момент возникновения заговора, когда он еще не взошел на престол правды и не был сдобрен лиризмом протеста. Попытаться достичь внутри истории нулевой степени истории безумия, где оно представляет собой недифференцированный опыт, опыт, еще не разделенный механизмом деления. Описать от исходной точки поворота это „иное безумие“, которое единым мановением роняет то, что отныне является чем-то внешним, глухим к любым изменениям, и словно умирает одно в другом, Разум и Безумие».
Фуко с самого начала заявляет, что достичь этого «неудобного пространства» можно, лишь отказавшись «от комфорта конечных истин», то есть освободившись от концептов, выработанных современной психопатологией: «Важно движение, разделяющее безумие, а не наука, которая возникает в обретенном спокойствии, когда деление уже произошло». Медицинское знание замуровывает сумасшедшего в его безумие. Сумасшедший и здравомыслящий перестают разговаривать друг с другом: «Что касается общего языка, то его не существует, точнее, его больше не существует: осознание безумия как психической болезни, имевшее место в конце XVIII века, свидетельствует о прерванном диалоге, об уже достигнутом разобщении и погружает в забвение неловкие слова, не имеющие строго синтаксиса, почти бормотание, при помощи которого происходил обмен между безумием и разумом. Язык психиатрии, являющийся монологом разума о безумии, мог вырасти только на таком молчании». Далее следует часто цитирующийся пассаж, в котором Фуко дает определение своему замыслу:
«Я хотел создать не историю такого языка, а, скорее, археологию этого молчания»[160].
Намерение создать «археологию молчания» ведет к необходимости прозондировать всю западную культуру. Поскольку «европеец с самого раннего средневековья имел дело с тем, что он нетвердо называл безумием, слабоумием, неразумием», следует, видимо, признать, что отношение разум — неразумие составляет для этой культуры «одно из мерил ее оригинальности», что она определяется этой пучиной, угрожающей ей. Именно к этой пучине, к этой «области, где следует ставить вопрос о границах, а не об идентичности культуры», Фуко и намерен нас подвести. Нужно «написать историю границ — тех смутных движений, неизбежно забывающихся после того, как они совершены, благодаря которым культура отбрасывает то, что должно стать для нее чем-то внешним; и на протяжении всей истории это зияние, это пустое пространство, служащее для самоизоляции, определяет ее не менее, чем выработанные ею ценности. […] Выпытывать предельные опыты культуры значит расспрашивать ее о границах истории, о разрыве, который подобен самому рождению ее истории».