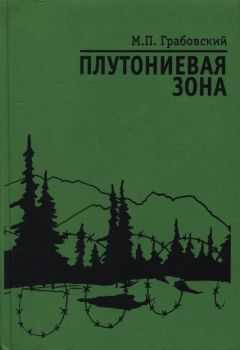Хруничев крутился как белка в колесе. Анодированные трубы были на подходе.
18 января 1949 года Курчатов потребовал остановки реактора в ультимативной форме. Ничего другого ему не оставалось. Защитные поглощающие стержни были уже почти полностью извлечены из активной зоны. Коэффициент размножения в сборке в любую минуту мог перейти границу и опуститься ниже единицы. Это означало бы, что цепная реакция в котле прекратится. Заглохнет сама по себе, независимо от приказов Берия и решений Специального комитета.
20 января 1949 года на комбинат была отгружена первая партия анодированных труб. Музрукову разрешили остановить реактор на капитальный ремонт. Вопрос стоял таким образом: как заменить все технологические трубы, сохранив при этом находящиеся в них урановые блочки, еще недооблученные до кондиции. Ведь нового урана в стране не было! Массовую разгрузку каналов в нижний подземный бункер, как это было предусмотрено проектом и выполнено конструктивно, произвести было невозможно. Проблема заключалась в том, что процесс разгрузки технологического канала не ограничивался открытием нижнего подпятника и свободным полетом урановых блочков в приемный бункер. Это технологический тракт: канал — шахта разгрузки — кюбель — бассейн выдержки и т. д. Проходя весь этот путь, урановые блочки соударяются между собой, со стенками бункера и кюбеля. Герметичная защитная оболочка нарушается. Все эти механические дефекты не имеют особого значения, если блочки идут дальше на радиохимическую переработку. Но для новой загрузки в реактор — после замены труб — такие блочки являлись бы абсолютно недопустимым браком. Их повторная загрузка привела бы к массовым «козлам» или даже частичному оплавлению активной зоны. Такой вариант разгрузки был категорически отклонен Курчатовым с самого начала.
Выход из нештатной ситуации подсказали рабочие. Они предложили «индивидуальный подход» к каждому урановому блочку…
В каждый канал загружено в среднем по семьдесят блочков. Каждый из них по очереди можно аккуратно извлечь через верхнюю горловину канала с помощью мощной резиновой присоски, опуская ее с грузиком на тросике. Опустил такое ручное приспособление в канал — захватил один блочок. Извлек осторожно, уложил на поддон или опустил в ведро с водой. Затем следующий. И так далее. Примерно сорок тысяч раз.
Предложение показалось Славскому и Курчатову диким. Ведь каждый блочок, извлеченный из активной зоны, — это смертельно опасный излучатель радиоактивности. Всю операцию надо провести так, чтобы ни один рабочий не прикоснулся случайно рукой или ногой, в перчатке или в ботинке, к такому блочку. Не говоря уже о том, что гамма-облучения избежать будет совершенно невозможно. Облучен будет весь мужской персонал реактора, воинские подразделения и заключенные (если, конечно, их допустит до работы режимная служба).
Однако другого варианта не нашли.
Работа по извлечению блочков и замене труб продолжалась непрерывно день и ночь полтора месяца.
Более всех облучались контролеры при визуальном осмотре извлеченных блочков с целью рассортировки и отбраковки имевших трещинки и вмятины.
Первые два дня почти без перерыва эту работу выполнял сам Курчатов. Разумеется, без дозиметрической кассеты. На третий день его почти насильно удалили из реакторного зала. Полученную им дозу оценили приблизительно в двести рентген.
Из воспоминания Е.П. Славского, «Военно-исторический журнал», 1993 год:
«Эта эпопея была чудовищная… Если бы досидел, пока бы все отсортировал, еще тогда он мог погибнуть…».
Всего было извлечено тридцать девять тысяч блочков. Все трубы заменены на анодированные. В середине марта эти же блочки загрузили сверху в новые трубы для продолжения работы. 26 марта 1949 года обновленный реактор был выведен на мощность.
Кузнецов работал на «пятачке» несколько раз. После того, как его кассета зарегистрировала аварийную норму облучения в 25 рентген, он был выведен в «чистые» условия работы. А многие рабочие и начальники смен из патриотических побуждений неоднократно оставляли свои дозиметры в кабинетах и шкафах перед заходом в «грязную» зону. Сам Курчатов с жалобами на здоровье к врачам не обращался, но именно тогда, после этого варварского капитального ремонта, на комбинате были зарегистрированы первые больные лучевой болезнью, официально обратившиеся за помощью в медсанотдел № 71.
Как раз к этому времени был построен первый лечебный корпус, представлявший собой длинное одноэтажное деревянное здание барачного типа. Стационарное обследование всех больных, подвергшихся облучению в первые месяцы 1949 года, проводилось во 2-м терапевтическом отделении под руководством Мойсейцева. Для врачей наплыв больных в начале этого года являлся совершенно неожиданной «лавиной в горах». Никакого опыта лучевой терапии у них не было, а зарубежная информация ограничивалась сведениями по острой форме, заканчивающейся большей частью смертельным исходом. Отсутствие знаний, необходимых лекарств, приличных стационарных условий затрудняли работу первых врачей, а существовавшие режимные запреты усугубляли трудности. Врачам было запрещено запрашивать официально зарегистрированные дозы облучения своих больных. Им не разрешалось расспрашивать подопечных об условиях их труда и характере облучения. Нельзя было записывать их устные сообщения в медкарты. Шутов в этих вопросах был тверд, как скала.
Из воспоминаний одного из первых врачей МСО-71 Ангелины Константиновны Гуськовой, 1995 год:
«Память медиков нагружалась огромным количеством фактических данных и цифр, которые было запрещено фиксировать письменно. Появлялись соответствующие уловки или шифры: дозу записывали в виде номера медицинской книжки, название лучевой болезни подменяли термином «астеновегетативный синдром», а наименование нуклидов — соответствующим номером. Все это вносило сложности в работу, затрудняло прочтение документов».
Молоденькие выпускницы медицинских вузов, как, впрочем, и пожилые врачи, опытные терапевты и дерматологи, сочувствуя и сострадая, не знали сами, как помочь этим больным и облегчить их муки. На этих первых больных врачи учились специфической науке диагностики и дифференцирования различных видов лучевых заболеваний.
Нянечки же украдкой плакали от жалости к молоденьким паренькам и от общего медицинского бессилия.
Самых тяжелых отправляли на лечение в Москву, в Институт биофизики.
Андрея тоже включили в столичную группу.
Первые, осторожные жалобы Андрея на плохое самочувствие Татьяна восприняла несерьезно: «Сильные мужчины любят жаловаться, если прищемят палец».
Когда же после осмотра и сдачи анализов Андрея оставили в стационаре, ей вдруг стало ужасно страшно за него и за себя. Его отъезд в Москву на неопределенный срок разом превратил жизнерадостную Татьяну в анемичное существо. После работы ей ничего не хотелось делать дома, в пустой квартире. Сидя на стуле или прикладываясь для короткого отдыха к подушке, она застывала в неподвижной позе. Что теперь будет?
Вскоре после эпизодического пускового триумфа на заводе «Б» аварии захлестнули и радиохимическое производство. К сравнительно мелким и постоянным, вроде коррозии оборудования и протечек раствора, добавились более серьезные, которых более всего и опасался Курчатов: самопроизвольные цепные реакции (СЦР).
Хотя утвержденную его регламентом предельную норму концентрации плутония в растворах — не более 150 граммов! — с грехом пополам старались соблюдать, опасность СЦР подкралась незаметно, исподволь. Оттуда, откуда ее совсем не ждали.
Эти аварии казались эксплуатационному персоналу какими-то непонятными и таинственными, и потому воспринимались всеми не как результат обычной оплошности или ошибки, а как наваждение.
Аппаратчицам и технологам стало казаться, что они не застрахованы ничем и никем от любой трагической случайности.
А действительная причина аварии чаще всего крылась в том, что на внутренней поверхности аппаратов невидимо для глаза происходила постепенная адсорбция плутония. На стенках откладывался никак не проявляющий себя до времени твердый налет этого металла. С течением дней, недель и месяцев толщина этого слоя росла, увеличивая массу никем не учитываемого делящегося плутония.
В каких-то аппаратах она приближалась в конце концов к критической отметке. И тогда достаточно было малейшего внешнего толчка — повышения температуры в помещении, уровня в емкости или концентрации, даже в допустимых пределах, — и цепной процесс деления ядер начинал свой непредсказуемый и неконтролируемый разгон.
СЦР могла протекать бурно, со взрывом емкости от теплового расширения содержимого, и более спокойно, даже невидимо для окружающего персонала.