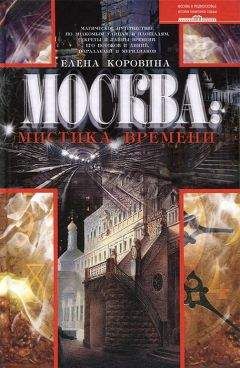Отец Павла, Михаил Захарович, жил со своей многочисленной семьей в дедушкином доме в Голутвине, тогда еще не распавшемся на несколько Голутвинских переулков. Домик тот был небольшим, но с просторным мезонином и находился рядом с колокольней церкви Николая Чудотворца. Там и родились и Павел Михайлович, и его младший брат Сергей. Но потом отец, Михаил Захарович, перебрался в большую наемную квартиру в доме № 8/10 на углу 1-го и 3-го Голутвинского переулка. Весь этот большой дом принадлежал купцам Рябушинским, и они даже считали его родовым домом. Но вот ведь перекрестье судеб – в 40-х годах XIX века здесь поселились Третьяковы и прожили до смерти отца – Михаила Захаровича.
И вот в 1851 году ставший старшим в роду Павел Михайлович обосновался с домашними неподалеку в Лаврушинском переулке – в доме, только что купленном и обставленном. На первом этаже жил сам Павел, его брат Сергей и старшая сестра с мужем. Второй этаж был отдан маменьке Александре Даниловне и девочкам – младшим сестрам.
Однако время шло. Все сестры оказались замужем, и все разъехались по Замоскворечью. Брат Сергей, всегда тяготеющий к европейской жизни, счел Замоскворечье «сиволапым местечком» и перебрался на другую сторону Москвы-реки в дорогущее и новомодное «итальянское палаццо» на Пречистенском бульваре, 6/7 (ныне это Гоголевский бульвар. – Е. К.).
И вот теперь в доме в Лаврушинском переулке остался только Павел. Но слава богу, конечно, не один – с обожаемой женой и детьми. Теперь здесь все только по его вкусам. На всех стенах – картины. В кабинете – самая любимая – «Грачи прилетели» Саврасова. Смотришь: простая русская весна, а душа оттаивает, оживает…
И вдруг… Кто-то вскрикнул в доме. Еще и еще, словно захлебываясь. Павел Михайлович вскочил с дивана. Почему-то вспомнился писк голодного ребенка в мастерской, куда ходил утром. Третьяков кинулся наверх в детские комнаты. В неясном свете ночной лампы из коридора вылетела 6-летняя Верочка, старшая дочка, и бросилась к отцу:
– Папа! Не отдавай меня!
Сбежались слуги. Жена, Вера Николаевна, пробилась сквозь их толпу и схватила Верочку на руки. Дочка зарыдала еще сильнее:
– Они звали меня, мама! А я не хочу к ним! У них страшно!
Третьяков взглянул туда, куда показывала девочка. Напротив двери в ее комнатку трепещущий свет лампы выхватывал из темноты огромную «Майскую ночь» кисти Крамского. Тяжелый лунный свет. Колдовское затягивающее озеро. Призрачные русалки, вышедшие на ночной берег…
– Зачем ты повесил эту жуткую «Ночь» в детский коридор, Паша? – Вера Николаевна, уложив Верочку, вошла в кабинет мужа.
– А куда мне ее девать? Прислуга отказывается убираться в зале, где висят эти утопленницы! Вот я и взгромоздил картину на комод в верхнем коридоре, думал: там темновато, ее не видно, а потом я место найду. Да тут, как на грех, нянька на комод лампу поставила. Верочка дверь открыла, а там – русалки…
– Намыкаемся мы, Паша, с твоими картинами! – Вера Николаевна нервно заходила по кабинету. – Я недавно мимо «Чаепития в Мытищах» Перова прошла, так толстый поп с картины на меня столь презрительно глянул, будто я ему действительно чай пить мешаю!
– Я и сам, Веруша, чувствую, – тихо сказал Третьяков, – картины своей жизнью живут. Недавно перенес два портрета на одну стену и сразу понял: не хотят они рядом висеть. Друг другу завидуют – ну чистые авантюристы! И точно – утром один портрет упал – видать, выжил его соперник!
– Это они нас скоро выживут! – Вера Николаевна остановилась и с вызывом взглянула на мужа. – На улице жить станем – вот тебе и все авантюры с приключениями!
– А разве плохо на свежем-то воздухе? – заулыбался Третьяков. – Щеки у нас будут – кровь с молоком. Прямо на улице чаи распивать станем.
Ну как с таким насмешником спорить?..
А ведь говорят, в детстве Паша был тихим и даже нелюдимым. Когда семья в Сокольники гулять ездила, прятался у себя в комнатенке, из дома выходить не хотел. А в юности друзья прозвали Павла архимандритом – больно робок он был с женщинами. Да он два года боялся к Вере Николаевне подойти, издали любовался. Однажды так завороженно засмотрелся, что с первого яруса в театре чуть не грохнулся.
– Кто это? – поинтересовалась тогда юная красавица Верочка Мамонтова.
– Молодой Третьяков, – ответила ее сестра Зинаида. – Купец первой гильдии из Замоскворечья. Торгует льняным полотном. Говорят, текстильную фабрику строит, пароходы покупает. Да еще и деньги тратит на собирание картин.
Сестры вышли в фойе и направились к спускавшемуся по лестнице поклоннику. Так тот вообще ретировался из театра. Близорукой Вере и рассмотреть его не удалось. Ну что прикажете делать с таким робким обожателем? Пришлось подключить то самое искусство, перед коим столь благоговел Павел Третьяков. В конце концов, семейство купцов Мамонтовых тоже не чуждо «наукам красоты». Мать Веры искусно играла, отец, Николай Мамонтов, прекрасно пел дуэтом со своим младшим братом Иваном. Сын Ивана, двоюродный брат Веры – Савва Иванович, бредил театром. Сама Вера и сестра Зинаида славились по Москве как прекрасные пианистки и часто играли на публике в четыре руки. Вот и решено было пригласить Павла Третьякова на музыкальный вечер.
Павел пришел к Мамонтовым, но забился в угол за штору. Однако после первого же выступления Веры выбрался «на свет» и бросился к приятелю:
– Какая чудесная пианистка!
Приятель не растерялся и подтащил Павла прямо к инструменту. Верочка подняла глаза и наконец увидела вблизи своего восторженного обожателя. Он ничуть не походил на замоскворецких купцов – тонкое нервное лицо, высокий лоб, ясная улыбка. Да он оказался красив, этот недотепа!
Уже на другой день Третьяков примчался к Мамонтовым с визитом. С тех пор в доме часто слышались наставления прислуге: «Не ставьте чашки на край! Уберите с дороги маленький столик!» Влюбленный недотепа ухитрялся смахивать на пол чашки, сворачивать столы и стулья. Но предложение осмелился сделать Верочке только через несколько месяцев. Свадьбу сыграли 22 августа 1865 года, а в октябре 1866 года родилась старшая дочка – Верочка (ни о каком другом имени Павел и слушать не захотел!), через год – Сашенька, в 1870-м – Любушка, и вот в 1871-м наконец-то сын – Миша. Но что делать – больной. Каких только врачей Вера не звала! Все только головами качали: «Тяжелые роды, голубушка! Надеемся, ребеночек выправится…» Но диагноза никто не ставил. В конце концов Павел привез двух немецких светил. Грузные, холеные, они долго осматривали Мишу, ощупывали толстыми пальцами, потом пошли пить чай. Говорили по-немецки. Вера хоть и знала язык, но от волнения ничего не понимала. Попив чаю, доктора попросили привести старших детей. В сопровождении бонны три девочки робко вошли в гостиную. Немцы спрашивали их о разных вещах на ломаном русском. Девочки пугались и путались. Наконец их отослали, и врачи по-русски вынесли вердикт: «Девошк – есть норма, малшик – найн». Потом один врач брезгливо заговорил с другим по-немецки. Вера разобрала только: «Idiotismus».
Всю ночь она рыдала. Павел терпеливо утешал:
– Не верю я немецким диагнозам! Выправится наш мальчик!
Спустя пару недель он приставил к Мишеньке старушку Ольгу Николаевну и возложил все надежды на любовь и заботу. Но время шло – Миша начал прибавлять в весе, но не в уме.
…Тонкие пальцы Веры Николаевны тревожно бегали по клавишам. Теперь дом просыпался под звуки ее рояля и засыпал под них. По утрам звучали бурные пассажи, будто она набиралась от них мужества на целый день. По вечерам звуки становились печальными и болезненными, словно она отдавала им свою тревогу. Однажды, когда Вера Николаевна начала играть, дом огласился диким ревом. Оказалось, девочки залезли под рояль и, услышав печальную игру матери, зарыдали в голос. Пришлось выудить их из-под инструмента.
– Зачем вы залезли под рояль? – рассердилась мать.
Люба набычилась и закричала, вытирая слезы:
– Надо же нам где-то играть!
А рассудительная Верочка объяснила:
– Папа говорит, по дому играть и бегать нельзя. Говорит, от нашего топота картины могут со стен упасть. А «море Айвазовского» вообще из рамы выплеснется!
Вечером Вера Николаевна завела с мужем свой давний разговор:
– Неужели не видишь, Павлуша, в доме житья не стало! Детям играть негде. В комнатах воздуха нет – все стены завешаны. Краска, лак, скипидар – разве это запахи для детей? Одно из двух: либо я с детьми, либо твои картины!
Третьяков озабоченно потер свой нос (ну что за странная привычка!):
– Ты же знаешь, Веруша, вы все мне дороги. Не могу я выбирать! Да, собирательство – страсть. И как говаривали древние, люта эта страсть и тягостна…
Вера отмахнулась:
– Так про уныние говорят!
Павел вздохнул:
– Вот я без картин и приду в уныние-то! Не могу я без оной страсти… Но я вот что надумал – пристрою-ка к дому крыло. Перенесу туда картины. Будет художественная галерея!