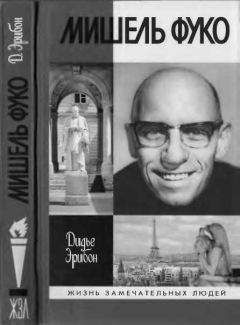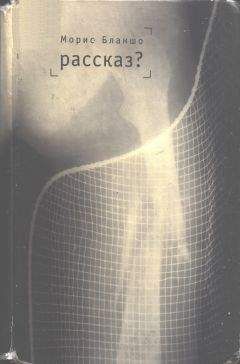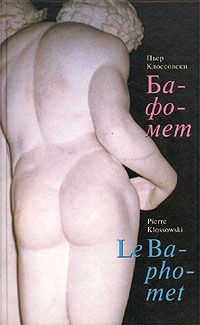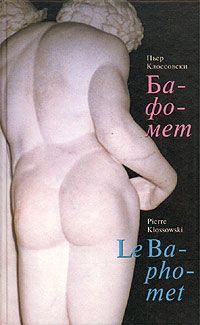Гуйе, Кангийем, Лагаш… Без сомнений, схватка диссертанта со знаменитым трио обещала быть жаркой. Тем более что защита включала помимо диспута своего рода обряд инициации — с обязательными испытаниями и ловушками.
Публике, в нетерпении ожидавшей выступлений и обмена мнениями по поводу «Безумия и неразумия», пришлось набраться терпения. Так как в начале защиты рассматривалась дополнительная диссертация, Фуко должен был прежде всего ответить на вопросы по «Антропологии» Канта. Его основными оппонентами были Жан Ипполит и Морис Гандийяк, профессор Сорбонны, большой знаток Средних веков и Возрождения, на счету которого числилось немалое количество переведенных немецких текстов. Фуко, объясняя свой замысел, замечает, что, для того чтобы понять текст Канта, писавшийся, переписывавшийся и редактировавшийся на протяжении двадцати пяти лет, необходимо совместить структурный анализ и анализ генезиса. Как складывался этот текст, из каких пластов он состоит — это анализ генезиса. Каков его статус внутри кантианской системы, как он соотносится с «критическим» направлением, развивавшимся Кантом, — это структурный анализ.
В устном выступлении, равно как и в тексте диссертации, Фуко широко использует собственную лексику — вскоре она широко войдет в научный обиход. Он говорит об «археологии текста Канта», задается вопросом о «пластах» и «глубокой геологии» и т. д. Дополнительная диссертация так и не будет опубликована. Перевод же текста Канта в 1963 году выпустит издательство «Врен», хотя Фуко, отвечая на замечания членов комиссии, заявил, что не предполагал публикацию «Антропологии» и взялся за эту работу только ради того, чтобы поставить вопрос о возможности философской антропологии. Что же касается исследования, то Фуко предпочел похоронить сто тридцать страниц в архивах Сорбонны, где они и покоятся в настоящее время. Но пусть нас это не обманывает: их нельзя классифицировать как мертвый груз. В дальнейшем мы увидим, насколько важным было это исследование и к чему оно привело. Возможно, именно эти страницы стали толчком к исследованию, вышедшему впоследствии под названием «Слова и вещи».
Но пока эта работа — всего лишь дополнительная диссертация, поданная на закуску. Наступило время приступить к главному блюду: основной диссертации.
Спектакль продолжился после краткого антракта. Председатель комиссии предоставляет слово соискателю. Высокий голос Фуко звучит напряженно. Он говорит отрывисто, мерно, его формулировки огранены, как бриллианты. «Приступая к исследованию, — объясняет Фуко, — я намеревался писать о сумасшедших, а не о врачах».
Однако это оказалось невозможным, поскольку голос безумия был задушен, сведен к немоте. Следовало собрать воедино отзвуки вечной битвы разума и неразумия, заставить заговорить то, что еще не стало языком, словами самовыражения, поэтому-то он и обратился к архивам. И пыльные документы открыли очевидное: безумие является не «фактом природы», но «фактом цивилизации». Оно всегда, в любом обществе, представляет собой «иное поведение», «иной язык». Следовательно, история безумия невозможна «без истории культур, которые определяют и преследуют его». И Фуко добавляет: чтобы довести расследование до конца, нужно было освободиться от концептов современной психиатрии, ибо медицинское знание о безумии возникло как «одна из многих форм отношения безумия и неразумия». В заключение Фуко ставит вопрос:
«Чем рискует культура, вступив в спор с безумием?»
После выступления Фуко начинается дискуссия. Всем запомнились возражения Лагаша. Сейчас принято иронизировать над непониманием, проявленным представителями французской традиционной психиатрии начала шестидесятых годов в отношении труда Фуко, сотрясавшего постулаты научного знания и психопатологических служб. Кстати, и Кангийем в предварительном отзыве, предупреждая возможную реакцию, подчеркивал: «Пересмотр основ научного статуса психологии является одним из сюрпризов, которые преподносит это исследование». Действительно, Лагаш разражается замечаниями и выказывает недовольство. Но не следует также забывать — и об этом свидетельствуют записи, сделанные Анри Гуйе, — что Лагаш от начала и до конца дискуссии проявляет большую осторожность. Его критика касается лишь деталей, причем замечания лишены агрессивности. По сути, он отказался от спора и скорее принял работу Фуко. В конечном итоге его выступления ограничились рассмотрением уязвимых мест (информация о медицине, психиатрии и психоанализе), а также констатацией того, что автор не сумел, вопреки замыслу, в полной степени отрешиться от современных концептов. Лагаш воздержался от тотальной критики видения проблемы, которое, скорее всего, было ему совершенно чуждо.
Главным оппонентом соискателя на этой знаменательной защите, видимо, являлся председатель комиссии. Но дело было не во враждебном отношении к Фуко или к его работе, а в профессиональной и интеллектуальной совестливости. «Меня попросили войти в комиссию как специалиста по истории философии, — объясняет он, — и я был обязан сыграть отведенную мне роль». Таким образом, перед Гуйе стояла конкретная задача, и он справился с ней с блеском. Его вопросы и комментарии не иссякают. Он оспаривает отдельные интерпретации текстов и произведений. «Нужно разграничивать философию текста и философию, основанную на тексте», — бросает он соискателю. Вносит исправления в историческую часть работы… Изложить все замечания, высказанные профессором, упомянуть о всех ссылках, подсказанных его могучей эрудицией, которые он обрушивал на соискателя, представляется непосильной задачей. Однако профессор оценил талант и красноречие Фуко, а также изящество его стиля. Возражения профессора касались всех аспектов книги, в частности, страниц, посвященных Священному Писанию. «Я не готов принять вашу интерпретацию, — говорил он. — Фрагменты Писания, которые Вы цитируете, а также комментария святого Винцента де Поля говорят не о том, что Иисус был безумен, а о том, что он намеренно вел себя так, чтобы его принимали за помешанного». И еще:
«Думаю, вряд ли можно говорить о „безумии Распятия“, как это делается в главе об умалишенных, поскольку существует представление о высшей мудрости».
Гуйе оспаривает также подход к теме «плясок смерти», согласно которому выражение безумия могло заменять в театре и изобразительном искусстве образ смерти. «Мне ясно, как вы к этому пришли. Для вас важна философская преемственность: безумие — своего рода смерть. И вы переносите эту преемственность на искусство». По мнению профессора, такая транспозиция незаконна. Он не согласен также и с описанием картин Босха. Гуйе обнаруживает некоторые пробелы в знаниях классики:
«Там, где вы цитируете Шекспира, следовало бы также обратиться к Джону Форду, к безумию Пентеи в „Разбитом сердце“»[184].
Профессор не принимает произвольное, с его точки зрения, прочтение «Племянника Рамо»: соискатель манипулирует текстом, приписывая героям Дидро те или иные мысли. То же самое происходит с текстами Декарта. На интерпретации текстов Декарта Гуйе останавливается особенно подробно. Вот что он говорит по поводу «злокозненного гения» из «Метафизических размышлений»: «Злокозненный гений символизирует гипотезу о существовании абсурдного мира, в котором 3+2 не равно пяти. Однако я не усматриваю здесь ни малейшей связи с символикой безумия: эта идея навязывается сближением понятий злокозненности и вседозволенности. Психология этого персонажа намечена в начале четвертого размышления: речь идет о представлении о вседозволенности, подсказанном расцвеченными образами макиавеллизма, которая лежит в основе бытия. Вы видите в нем угрозу неразумия. Но нет, это лишь обоснование возможности существования иного разума. Именно в этом состоит метафизическая основа гипотезы». Гуйе также возражает против того, чтобы видеть в формуле из первого размышления Декарта «но ведь это помешанные!» — жест, подстрекающий к отделению разума от неразумия. Гуйе понял, что страницы, посвященные Декарту, являются центром здания, выстроенного Фуко, поэтому-то он и уделяет им особенное внимание. Он также упрекает Фуко в том, что тот «мыслит аллегориями»: «Безумие персонифицировано, оно развивается, двигаясь от одного мифологического концепта к другому: Средние века, Возрождение, классическая эпоха, европейский человек, Судьба, Ничто, память людей… Благодаря этой персонификации происходит вторжение метафизики в историю, которое превращает повествование в эпопею, историю в аллегорическую драму, оживляющую философию». В заключение председатель комиссии заявляет: «Я не понимаю, что вы имеете в виду, когда определяете безумие как отсутствие творения». Фуко, по всей видимости, учтет это последнее замечание, поскольку чуть позже посвятит длинную статью разъяснению данной фразы[185]. Во втором издании «Истории безумия» он признает, что написал ее «необдуманно»[186].