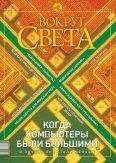И в таком виде развалины стоят уже вечно.
Связь времен
Я мечтал бы жить сию секунду. В эту секунду, и только ею. Тогда бы я был жив, гармоничен и счастлив. Живу же я где-то между прошлым и настоящим собственной жизни в надежде на будущее. Я хочу ликвидировать разрыв между прошлым и настоящим, потому что разрыв этот делает мою жизнь нереальной, да и не жизнью. Я все надеюсь с помощью чудесного усилия оказаться исключительно в настоящем времени и тогда уже не упустить его более, с тем чтобы жизнь моя вновь обрела непрерывность от рождения до смерти.
Даже внутри одной жизни отношения со временем (физическим) так сложны. А если к этому прибавить отношения со временем историческим? А если продолжить мысленным пунктиром отрезок личного времени в прошлое и будущее, за твои временные границы? Если взять твои отношения уже не с историческим временем, а с временем истории? И если соотнести время истории с временем вечности?
Голова, конечно, кружится. И разве бы она кружилась, если бы ничего тебя с этой бездной не связывало? Что связывает времена? И что связывает тебя с временами?
Для простоты употребления времена связывают историей…
«Да и есть ли история? Существует ли объективно? Не есть ли она наше случайное отношение к времени?» и т.д. – такие мысли однажды посетили меня…
…В воскресенье необходимо было ехать в Эчмиадзин. На воскресную службу. Мой друг со мной не поехал, препоручил брату. Правда, тому были у него свои уважительные причины, но теперь мне почему-то кажется, что его всегдашнее сопротивление перед новым посещением любимых Мекк тут не присутствовало, что ему просто неинтересно было ехать в Эчмиадзин.
Но мне-то туда обязательно надо было ехать. Будет католикос. Будет петь преемница Гоар… И вообще – посмотреть.
Толпы людей на автобусных остановках – все в Эчмиадзин, Эчмиадзин. Уже эти-то, свои люди, сколько раз видели и слышали, а едут – это еще убеждало меня. Толпа была очень интеллигентна.
Толпа интеллигентов – не часто встречающийся вид толпы и зрелище довольно удивительное. Каждый полагает себя не подчиненным законам толпы, а все вместе все равно составляют толпу.
Это самая неискренняя толпа из всех возможных. Сдавленный и стиснутый со всех сторон, интеллигент-ценитель тем не менее полагает себя продолжающим существовать в своем личном пространстве. Это очень видно на всех лицах. На лицах у них, напряженно и вытянуто, выражено, будто это не их толкают и не они сейчас остро и больно оттопыривают локоть. Подчиняясь законам толпы, интеллигент все-таки полагает себя единственным носителем истинных побуждений в бессмысленной толпе. И видеть столько масок отдельности друг от друга на лицах, отстоящих одно от другого на несколько сантиметров, по меньшей мере странно. Так и я имел отдельное от этого удивительного наблюдения лицо, пока не успокоился лицезрением поразительно красивой девушки с таким пряменьким золотеньким крестиком на шее, полупогруженным в удивительную ложбинку. Я мог смотреть на нее сколько угодно – деться ей от меня в этой душегубке было некуда. Ей же разрешалось лишь не смотреть на меня сколько угодно.
Так выдохнуло нас наконец в светлое пространство, и мы разжались с поспешностью.
Но тут уже, на просторе, начались радостные оклики и рукопожатия. Тут был «весь Ереван», и все звали брата моего друга, а я пожимал руки в качестве друга его брата, то есть и его друга, и после рукопожатия уже был другом тому, кому только что пожал руку. Это тоже могло показаться странным, до какой степени все были незнакомы в автобусе, прижатые друг к другу, и как вдруг все стали радостно узнавать друг друга, как только обрели возможность увидеть себя в нескольких метрах от знакомого. Тут узнавали друг друга не при приближении, а при удалении – так получалось. Это подтвердилось, когда все набились в храм: имея десять знакомых на один квадратный метр, снова перестаешь быть с ними знакомым. Но тут уже можно было внутренне сослаться на сосредоточенность и благоговение.
Ну, я населил это пространство и теперь могу рассказать о том, что видел. То есть у меня несколько другая задача: рассказать, как я не видел.
Мы прошли в парк, и перед нами вырастало древнее тело огромного храма. Почему-то казалось, что он построен в конце прошлого века, а не шестнадцать веков назад; может, так тщательно и давно следили за его состоянием, так все подновлялось и заменялось, что уже все и заменено, и хотя формы те же, но таким новым не может быть храм, такой новой бывает только посуда. Вдруг реально: свежая кровь на стене, кровь и должна быть свежая – понятно. «Что это?» – «Это бьют голубей, головой об стенку». – «Для чего?» – «Приносят в жертву». – «Кому?» – «Богу». Тут же и мальчишки вдруг видимыми стали, хотя и до этого поблизости толклись; голуби у них живые, связками, на продажу для жертвоприношений – тоже нормальные мальчишки, своего возраста, не старше и не моложе. Дальше, кажется, мы в храм протискались… Толпа из автобуса, но – в храме; служба идет, ритуал – все чинно, красиво: что за одежды, какие лица! Справа, чуть ли не на эстраде, певица поет, замечательно поет, голос – дивный, заслушаешься, про музыку и говорить нечего – музыка.
Так мне вдруг и бросился в глаза какой-то базар: в одном месте служат, в другом поют, в третьем молятся, в четвертом глазеют. То есть совершенно непонятно, что происходит. В чем дело? Да верующих же нет! Полно, битком, дышать нечем, цыпочки и шея болят, а верующих нет. То есть направо – филармония. Налево – театр. Сзади – любопытство. И лишь впереди, на коленях, тщеславие завсегдатая. А кто протолкался вперед – уже и насмотрелся, да назад ходу нет. А служба течет своим чередом, а таинство ее никому не понятно. Рассмотрели одежды и лица, понюхали курения, но одежды и через десять минут те же, и лица, и запах – развитие неясно. И я… Почему я так все это вижу? Чем у меня голова забита!.. Просто срам.
Тут хоть ребенок заплакал искренне – маму потерял, такое облегчение на лицах: понятное это, ребенок плачет, даже души в телах задвигались – по-понятному, сочувствие. И рад бы от стыда хоть знамением себя осенить, да тоже никак не запомнить, с какой стороны на какую и сколько перстов сложить. «Католикос! Католикос!» – наконец оживилась толпа. Вот кого выстаивали-то!
И такое передвижение началось, чтобы подвинуться поближе, водоворотики и вороночки образовались, меня к выходу вытолкнуло, а я и рад – свет, воздух! – божественное пространство. Но все, кто стремился к цели, просчитались: католикос прошел другим путем, где не ждали. Прошел между могильных плит, таких же, как он, католикосов (где-то и ему тут будет плита), – и никого там народу не было. Один я. Прошел он сквозь меня, будто меня и не было, и ветерок поднял. Окаменел я, ветерком этим обдуваемый, тут-то меня толпа и растоптала…
Очнулся я на полянке, рядом – брат друга, порадовались, познакомил он меня с певицей, пригласили нас на травку, стали потчевать так просто, так естественно – ешьте, пейте! Здесь такой народ сидел замечательный! Пока все там в храме культурно развлекались, скучая, тут ели под открытым небом жертвенных барашков: всех угости, а сам своего барана не ешь… Ешь, пей, славь Господа! На одной земле сидим, под одним небом, всем делимся, ничего друг у друга не просим! Мир на лицах, мир на миру. Опять чудесная жизнь окружает нас, люди! Вон баранчика, такого трогательного, повели, с красной ленточкой на шее, сейчас его зарежут… А там, в каменном мраке, в пламенном и жирном аду, шашлык из него сделают и тем шашлыком тебя угостят… А там женщина куру какой-то бедной старушонке вручила, по-настоящему ей бы надо куру эту приготовить и угостить, но готовить неохота, можно и так отдать, пусть та старушка потом сама себе сготовит… Главное – отдать свое и, что отдашь, того самому не есть… Сижу это я, в одной руке вино, в другой – шашлык, в лаваш завороченный, вокруг меня чужая речь – и хорошо мне вдруг, так по-детски хорошо! Пропало на секунду время, как только, наверно, в молитве да в счастье бывает, когда Господь слышит… А уж на эту поляну он непременно бросит взор – это будет для него воскресный отдых.
А нас уже и на свадьбу пригласили, и еще к одному знакомому брата друга в гости, и еще к одному знакомому знакомого, и еще к одному незнакомому. Улыбнулся Господь поневоле, уголком рта…
Ну и что же? Что за водоворот времен закружил меня? Церкви тысяча шестьсот лет, но крыше ее один год, христианству две тысячи лет, а жертвоприношениям – десять тысяч; сноб вошел в храм лет десять назад, а люди следуют обычаю не первую сотню лет, газетка под пир подстелена вчерашняя, а небо над нами вечно, католикосу шестьдесят, а мне тридцать – боже! – а певице – двадцать пять, а кто-то еще и не родился и неба еще не видал!
Из каких разных времен пришли сюда жертвоприношения и снобы, служба и филармония, постройки и пристройки, текст и пение его! Каша, водоворот, стремнина времен в секунде настоящего времени.