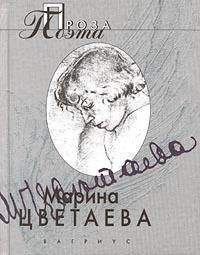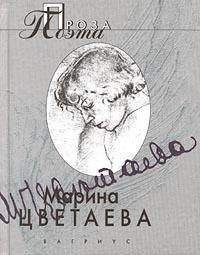«Кто так властвова над живыми людьми и судьбами, как Брюсов?
Р. И. Клейн — Архитектор Музея изобразительных искусств.
«Белое видение лестницы, владычествующей над всем и всеми».
Проект Музея.
На церемонии закладки Музея присутствовали члены царской семьи.
«Ю. С. Нечаев — Мальцев стал главным, широко говоря — единственным жертвователем музея, таким же его физическим создателем, как отец — духовным»..
И. В. Цветаев
.
В волошинской библиотеке.
«Одно из жизненных призваний Макса было сводить людей, творить встречи и судьбы». Слева направо: Н. Беляев, С. Эфрон, М. Цветаева, А. Цветаева, В. Эфрон, М. Волошин, Л. Эфрон, Б. Фейнберг, М. Гехтман, Е. Волошина, М. Лямин. 1911 г.
«В его лице я рыцарству верна.
— Всем вам, кто жил и умирал без страху.
Такие — в роковые времена —
Слагают стансы — и идут на плаху»
.
Ариадна и Ирина. «Старшую у тьмы выхватывая — Младшей не уберегла».
«Желание Сергея было назвать его Георгием — и я уступила.
Георгий же в честь Москвы и несбывшейся Победы. Но Георгием все‑таки не зову, зову Мур — от кота».
«Евгений Багратионыч — сама современность, театр будущего…»
Театр — студия Е. Б. Вахтангова.
Артист А. А. Стахович. «Высокой души — дворянин… бархат и барственность. Без углов».
Студийцы — вахтанговцы. Сцена из спектакля «Зеленое кольцо». Третий слева — А. А. Стахович, вторая справа — С. Е. Голлидэй.
В. Л. Мчеделов, режиссер. «Он глубоко любил стихи и был мне настоящим другом и настоящей человечности человеком».
Владимир Алексеев.
«Друзья мои! Родное триединство! Роднее чем в родстве!
Друзья мои в советской — якобинской — Маратовой Москве!»
«Володя… приходил из тьмы зимней тогдашней ночи и в нее, еще более потемневшую за часы и часы сидения, — уходил».
«Юрий… Моей целью было одарить его возможно больше, больше — для актера».
Павел Антокольский. «Павлик… с которым я могла только совместно править миром».
Юрий Завадский.
Сонечка Голлидэй.
«Передо мной — живой пожар. Горит все, горит — вся. Горят щеки, горят губы, горят глаза, несгораемо горят в костре рта белые зубы, горят — точно от пламени вьются! — косы, две черных косы, одна на спине, другая на груди, точно одну костром отбросило». но в царстве Духа, останутся показательными для новой, насильственной на Руси, бездушной коммунистической души, которой так страшился Блок, Все вышепоименованные выше (а может быть — шире, а может быть — глубже) коммунистической идеи. Брюсов один ей — бровь в бровь, ровь в ровь.
(Говорю о коммунистической идее, не о большевизме. Большевиков у нас в поэзии достаточно, то же — не знаю их политических убеждений — Маяковский и Есенин. Большевизм и коммунизм. Здесь, более чем где‑либо, нужно смотреть в корень (больш — comm —). Смысловая и племенная разность корней, определяющая разницу понятий. Из второго уже вышел III Интернационал, из первого, быть может, еще выйдет национал — Россия.)
И окажись Брюсов, как слух о том прошел, по посмертным бумагам своим не только не коммунистом, а распромонархистом, монархизм и контрреволюционность его — бумажные. От контр, от революционера в революции — монархиста — в Брюсове не было ничего. Как истый властолюбец, он охотно и сразу подчинился строю, который в той или иной области обещал ему власть. (На какой‑то точке бонапартизм с идеальным коммунизмом сходятся: «1а carriere, ouverte aux talents»[93] — Наполеон.) «Брюсовский Институт» в царстве Смольных и Екатерининских — более чем гадателен. Коммунизм же, царство спецов, с его принципом использования всего и вся, его (Брюсовский Институт) оценил и осуществил.
Коммунистичность Брюсова и анархичность Бальмонта. Пле- беистичность Брюсова и аристократичность Бальмонта (Брюсов, как Бонапарт — плебей, а не демократ). Царственность (островитянская) Бальмонта и цезаризм Брюсова.
Бальмонт, как истый революционер, час спустя революции, в первый час stabilite[94] ее, оказался против. Брюсов, тот же час спустя и по той же причине оказался — за.
Здесь, как во всем, кроме чужестранности, еще раз друг друга исключили.
Бальмонт — если не монархист, то по революционности природы.
Брюсов — если монархист, то по личной обойденности коммунистами.
Монархизм Брюсова — аракчеевские поселения.
Монархизм Бальмонта — людвиго — вагнеровский дворец. Бальмонт — ненависть к коммунизму, затем к коммунистам. Брюсов — возможность ненависти к коммунистам, никогда — к коммунизму.
Бюрократ — коммунист — Брюсов. Революционер — монархист — Бальмонт.
Революции делаются Бальмонтами и держатся Брюсовыми.
(Первая примета страсти к власти — охотное подчинение ей. Чтение самой идеи власти, ранга. Властолюбцы не бывают революционерами, как революционеры, в большинстве, не бывают властолюбцами. Марат, Сен — Жюст, по горло в крови, от корысти чисты. Пусть личные страсти, дело их — надличное. Только в чистоте мечты та устрашающая сила, обрекающая им сердца толп и ум единиц. «Во имя мое», несмотря на все чудовищное превышение прав, не скажет Марат, как «во имя твое», несмотря на всю жертвенность служения идее власти, не скажет Бонапарт. Сражающая сила «во имя твое».
У молодого Бонапарта отвращение к революции. Глядя с высоты какого‑то этажа на казнь Людовика XVI, он не из мягкосердечия восклицает: «Et dire qu’il ne faudrait que deux compagnies pour balayer toute cette canaille‑la»[95]. Орудие властолюбца — правильная война. Революция лишь как крайнее и не этически — от- вратительное средство. Посему, властолюбцы менее страшны государству, нежели мечтатели. Только суметь использовать. В крайнем же случае — властолюбия нечеловеческого, бонапартовского — новая власть. Идея государственности в руках властолюбца — в хороших руках.
Я бы на месте коммунистов, несмотря ни на какие посмертные бумажные откровения, сопричислила Брюсова к лику уже имеющихся святых.)
Два слова еще о глубочайшем анационализме (тоже соответствие с советской властью) Брюсова. Именно об анационализме, мировоззрении, а не о безродности, русском родинночувствии, которого у Брюсова нет и следа[96]. Безроден Блок, Брюсов анационален. Сыновность или сиротство — чувствами Брюсов не жил (в крайнем случае — «эмоциями»). Любовь к своей стране он заменил любопытствованием чужим, не только странам: землям: планетам. И не только планетам: муравейнику — улью — инфузорному кишению в капле воды.
Люблю свой острый мозг и блеск своих очей,
Стук сердца своего и кровь своих артерий.
Люблю себя и мир. Хочу природе всей
И человечеству отдаться в полной мере.[97]
(Какое прохладное люблю и какое прохладное хочу. Хотения и любви ровно на четыре хорошо срифмованные строки. Отдаться — не брюсовский глагол. Если бы вместо отдаться — домочься — о, по — иному бы звучало! Брюсов не так хотел — когда хотел!)
Но микроскоп или телескоп, инфузорное кишение или кипящая мирами вселенная — все тот же бесстрастный, оценивающий, любопытствующий взгляд. Микроскоп или телескоп, — простого человеческого (простым глазом) взгляда у Брюсова не было: Брюсову не дан был.
В подтверждение же моих слов об анациональности отношу читателя к раннему его — и тем хуже, что раннему! — стихотворению «Москва», в памяти не уцелевшему. («Москва», сборник, составленный М. Коваленским, из<да>ние «Универсальной библиотеки», последняя страница. Может быть, имеется в «Юношеских стихах». Дата написания 1899 г.)
Брюсов в мире останется, но не как поэт, а как герой поэмы. Так же как Сальери остался— творческой волей Пушкина. На Брюсове не будут учиться писать стихи (есть лучшие источники, чем— хотя бы даже Пушкин! Вся мировая, еще не подслушанная, подслушанной быть долженствующая, музыка), на нем будут учиться хотеть — чего? — без определения объекта: всего. И, может быть, меньше всего — писать стихи.