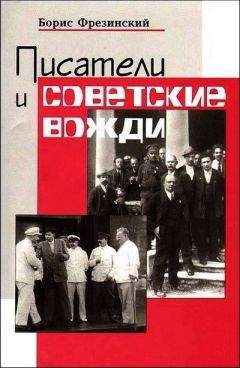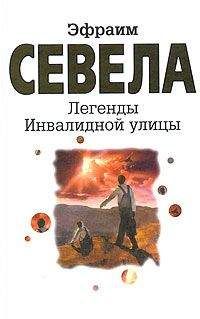Вот, например, скоро я двинусь в Союз. Могу по дороге что либо посмотреть, выбрать маршрут в связи с планами очерковыми, но для всего этого мне нужны указания, так как предвидеть нюансы, во-первых, высоко политические, а, во вторых, внутренне-редакционные я уж никак отсюда не могу.
Итак, это первый и основной вопрос. Перехожу к другому — к съезду писателей[409] <…>.
В ближайшие дни выходит книжкой мой роман «Не переводя дыхания». Мне очень хотелось, чтоб в «Известиях» была о нем статья, если, конечно,
Вы находите это удобным и сам роман достойным этого[410].
С Мальро вышло нехорошо. Его разобидели и по-моему зря: книга хорошая и отрывок был понятный.
Жду от Вас скорого и исчерпывающего ответа на это письмо.
Я очень устал: съезд, перевод Мальро, статьи для «Известий». Не знаю, когда удастся отдохнуть или даже просто перевести дыхание.
Крепко жму руку!
Ваш И. Эренбург.
Упомянутый здесь перевод Мальро — это работа Эренбурга над переводом книги Андре Мальро «Годы презрения». История началась в марте 1935 г., когда Эренбург прислал отрывок из нее в «Известия», предполагая, что газета его опубликует. Об этом Эренбург несколько раз настойчиво писал Мильман.
8 апреля. «Мальро получил от „Правды“ письмо: просят дать отрывок из романа. Я его попросил подождать несколько дней. Отказать он не может, но может отсрочить на несколько дней».
15 апреля. «Выясните, почему маринуют Мальро».
8 мая. «Пишу НИ о том, что очень сердит из-за первомайской статьи. Пишу также о Мальро: если не напечатают в самое ближайшее время, передам в другое место, — так решил сам Мальро, я же только переводчик».
20 мая. «Сегодня получил Вашу телеграмму насчет того, что НИ будет сегодня звонить. Постараюсь всё выяснить. Во всяком случае, остается в силе прежнее: если они не печатают Мальро, дать в другое место».
23 мая отрывок из книги «Годы презрения» напечатала «Вечерняя Москва», где работала Мильман; в тот же день Эренбург[411] послал в Москву новый отрывок, попросив Мильман «для приличия» показать его в «Известиях».
26 мая. «Жду разъяснений с Мальро. Я усиленно работаю над переводом Мальро и 15-го июня „Знамя“ получит всю рукопись».
8 июня (когда было написано и приведенное выше письмо Бухарину): «Посылаю 2 и 3 главы Мальро. В ближайшие дни вышлю 4 и 5 (они в переписке), 6, 7, 8 рассчитываю выслать между 15 и 20… Сегодня же посылаю письмо НИ с оказией».
В итоге «Известия» отрывок из романа Мальро так и не напечатали. 14 июня отрывок из книги Мальро появился в «Правде». О литературно-политическом тандеме Эренбург — Мальро речь еще пойдет впереди, в главе об антифашистских писательских конгрессах.
В июле 1935 г. в Париже прошел Международный антифашистский конгресс писателей в защиту культуры. Подготовка его была непростой и длительной, а у истоков его было то самое письмо Эренбурга Сталину, которое из Одессы привез Сталину Бухарин. Эренбург принимал активное участие в подготовке парижского конгресса, а вот Бухарина на парижский конгресс Сталин не пустил. По итогам конгресса Эренбург прислал Бухарину подробный и критический отчет, который Николай Иванович вручил Сталину — это было очень важно для Эренбурга в условиях острого противостояния в «штабе конгресса» групп Эренбурга — Мальро и Кольцова — Арагона (но обо всем этом — см. главу о писательских конгрессах)…
Одна из статей Эренбурга, написанная в Москве в ноябре 1935-го и сразу же напечатанная Бухариным в «Известиях», вызвала гневную реакцию Сталина. Статья была посвящена знаменитой ударнице Дусе Виноградовой и напечатана 21 ноября.
В мемуарах «Люди, годы, жизнь» Эренбург написал об этом так: «Однажды Сталин позвонил Бухарину: „Ты что же, решил устроить в газете любовную почту?..“ Было это по поводу моего „Письма к Дусе Виноградовой“, знатной ткачихе: я попытался рассказать о живой молодой женщине. Гнев Сталина обрушился на Бухарина»[412].
Что же разозлило вождя? Рассказ о живой молодой женщине, а не о роботе? Популярность бухаринских «Известий»? Неформальные выступления Эренбурга на «дискуссии» о формализме? Всяко, выволочка, учиненная вождем (наверняка в присутствии очевидцев), была яростной («Я был в большом смятении, когда ты меня разносил за Эренбурга…»[413], — признался Сталину Бухарин).
Об этом «разговоре» он, зная опасную натуру Сталина и его методы, сказал Эренбургу. И тогда, 28 октября 1935 г., в московской гостинице «Метрополь» писатель сочинил свое второе письмо вождю:
Уважаемый Иосиф Виссарионович,
т. Бухарин передал мне, что Вы отнеслись отрицательно к тому, что я написал о Виноградовой. Писатель никогда не знает, удалось ли ему выразить то, что он хотел. Напечатанные в газете эти строчки о Виноградовой носят не тот характер, который я хотел им придать. Не надо было мне этого печатать в газете, не надо было и ставить имя действительно существующего человека (Виноградовой). Для меня это был клочок романа, не написанного мной, и в виде странички романа, переработанные и, конечно, измененные, эти строки звучали бы совершенно иначе. Мне хочется объяснить Вам, почему я написал этот рассказ. Меня глубоко взволновала беседа с Виноградовой, тот человеческий рост, то напряжение в работе, выдумка, инициатива и вместе с тем скромность, вся та человечность, которые неизменно меня потрясают, когда я встречаюсь с людьми за последнее время. Но все это подлежит обработке, должно стать страницами книги, а не быть напечатанным на газетных столбцах.
Мне трудно себе представить работу писателя без срывов. Я не понимаю литературы равнодушной. Я часто думаю: какая в нашей стране напряженная, страстная, горячая жизнь, а вот искусство зачастую у нас спокойное и холодное. Мне кажется, что художественное произведение рождается от тесного контакта внешнего мира с внутренней темой художника. Вне этого мыслимы только опись, инвентарь существующего мира, но не те книги, которые могут жечь сердца читателей. Я больше всего боюсь в моей работе холода, внутренней незаинтересованности. Вы дали прекрасное определение всего развития нашего искусства двумя словами: «социалистический реализм». Я понимаю это, как необходимость брать «сегодня» в его развитии, в том, что имеется в нем от «завтра», в перспективе необыкновенного роста людей социалистического общества. Поэтому мне больно видеть, как словами «социалистический реализм» иногда покрывается натурализм, то есть восприятие действительности в ее неподвижности. Отсюда и происходит тот холод, то отсутствие «сообщничества» между художником и его персонажами, о которых я только что говорил.
Простите, что я отнимаю у Вас время этими мыслями, уходящими далеко от злополучной статьи. Если бы я их не высказал, осталось бы неясным мое писательское устремление: ведь в ошибках, как и в достижениях, сказывается то, что мы, писатели, хотим дать. Отсутствие меры или срывы у меня происходят от того же: от потрясенности молодостью нашей страны, которую я переживаю, как мою личную молодость. То, что я живу большую часть времени в Париже, может быть, и уничтожает множество ценных деталей в моих наблюдениях, но это придает им остроту восприятия. Я всякий раз изумляюсь, встречаясь с нашими людьми, и это изумление — страсть моих последних книг. Мне приходится в Париже много работать над другим: над организацией писателей, над газетными очерками о Западе, но все же моей основной работой теперь, моим существом, тем, чем я живу, являются именно это волнение, это изумление, которые владеют мною, как писателем.
Я вижу читателей. Они жадно и доверчиво берут наши книги. Я вижу жизнь, в которой больше нет места ни скуке, ни рутине, ни равнодушью. Если при этом литература и искусство не только не опережают жизнь, но часто плетутся за ней, в этом наша вина: писателей и художников. Я никак не хочу защищать двухсот строчек о Виноградовой, и, если бы речь шла только об этом, я не стал бы Вас беспокоить. Но я считаю, что, разрешив т. Бухарину передать мне Ваш отзыв об этом рассказе (или статье), Вы показали внимание к моей писательской работе, и я счел необходимым Вам прямо рассказать о том, как я ошибаюсь и чего именно хочу достичь.
«Работа над ошибками» выглядела убедительно, но этого было мало.
О недовольстве вождя статьей Эренбурга стало известно в ЦК и в близких к нему кругах. В отделе печати ЦК московскими выступлениями Эренбурга по вопросам искусства были крайне недовольны, Противники, завистники писателя давно ждали случая разделаться с парижским, как они считали, счастливчиком. Остановить их могло только одно: опасение, что вождь их не поддержит. Положение Эренбурга оставалось неопределенным, и он решил повести разговор со Сталиным без обиняков. В этом был безусловный риск, но, как говорится, кто не рискует, тот не выигрывает, и Эренбург написал: