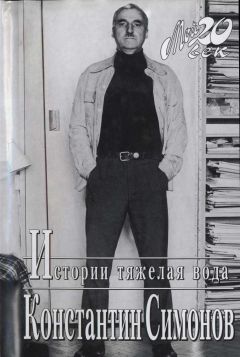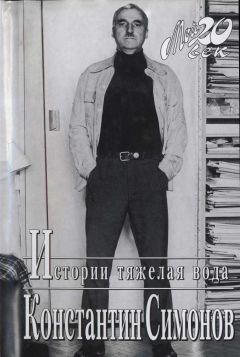Мне многое приходилось осваивать практически, без достаточных, предварительно накопленных широких и разносторонних знаний. Это имело и свою положительную сторону. Отвечая за дело, стремясь поступить наилучшим образом и чувствуя при этом те или иные пробелы в своей общей подготовке, я стремился решать встававшие передо мной вопросы как можно фундаментальнее, стремился докопаться до корня, не позволить себе принять первое попавшееся поверхностное решение. Было повышенное чувство ответственности по отношению к порученному делу, ощущение необходимости до всего дойти своим умом, своим опытом, стремясь тут же непосредственно пополнить свои знания всем тем, что было нужно для дела.
При всей трудности положения иногда в этом была и своя положительная сторона. Кстати сказать, некоторые из наших высокообразованных, профессорского типа военных, профессоров, оказавшихся в положении командующих на тех или других фронтах войны, не проявили себя с положительной стороны. В их решениях мне случалось замечать как раз элементы поверхностности. Порой они предлагали поверхностные решения сложных проблем, не укладывавшихся в их профессорскую начитанность. В этом состояла оборотная сторона медали — им иногда казалось простым, само собой разумеющимся то, что на самом деле было трудным и что мне, например, казалось очень трудным для решения, да так оно и было в действительности».
«Есть в жизни вещи, которые невозможно забывать. Человек просто — напросто не в состоянии их забыть, но помнить их можно по — разному. Есть три разные памяти. Можно не забывать зло. Это одно. Можно не забывать опыта. Это другое. Можно не забывать прошлого, думая о будущем. Это третье.
Мне пришлось пережить в своей жизни три тяжелых момента. Если говорить о третьем из них, то тут в чем‑то, очевидно, виноват и я, — нет дыма без огня. Но пережить это было нелегко.
Когда меня в пятьдесят седьмом году вывели из состава Президиума ЦК и из ЦК и я вернулся после этого домой, я твердо решил не потерять себя, не сломаться, не раскиснуть, не утратить силу воли, как бы ни было тяжело.
Что мне помогло? Я поступил так. Вернувшись, принял снотворное. Проспал несколько часов. Поднялся. Поел. Принял снотворное. Опять заснул. Снова проснулся, снова принял снотворное, снова заснул… Так продолжалось пятнадцать суток, которые я проспал с короткими перерывами. И я как‑то пережил все то, что мучило меня, что сидело в памяти. Все то, о чем бы я думал, с чем внутренне спорил бы, что переживал бы в бодрствующем состоянии, все это я пережил, видимо, во сне. Спорил, и доказывал, и огорчался — все во сне. А потом, когда прошли эти пятнадцать суток, поехал на рыбалку.
И лишь после этого написал в ЦК, попросил разрешения уехать лечиться на курорт.
Так я пережил этот тяжелый момент».
* * *Хочу закончить эти заметки тем же, с чего их начал.
Это не попытка написать биографию Жукова, а именно заметки к ней, и я буду рад, если впоследствии хотя бы часть сказанного и приведенного в них сослужит службу будущим биографам этого во многих отношениях выдающегося человека.
Апрель — май 1968
Об Иване Николаевиче Берсеневе
Весной 1939 года я написал пьесу «Медвежья шкура» и набрался смелости показать ее А. Горюнову, заведовавшему тогда литературной частью у вахтанговцев. Горюнов разбранил пьесу с полезной для меня откровенностью и, по — моему, категорически не поверил, что у меня что‑нибудь из нее выйдет.
Прошло полгода. За это время я впервые побывал на войне — на Халхин — Голе, видимо, повзрослел, а главное, получил какую‑то новую, недостававшую мне долю жизненного опыта. Человеческий конфликт, построенный на условных умозрительных ситуациях, приобрел в моем сознании реальные и более суровые черты, связанные не только с «музой дальних странствий», а с настоящей разлукой и с настоящей опасностью. Словом, в голове у меня образовалась новая пьеса на ту же тему, но с другими людьми и в другой обстановке. Я так ясно видел эту пьесу, что она казалась мне почти написанной, хотя я не написал еще ни слова. Больше того, мне казалось, что я могу всю ее с начала до конца рассказать тому, кто захочет меня слушать.
Как раз в это время я посмотрел два спектакля в Театре имени Ленинского комсомола — «Мой сын» в постановке Серафимы Германовны Бирман и «Нору» в постановке Ивана Николаевича Берсенева. Оба эти спектакля произвели на меня сильное впечатление, да и неудивительно — они принадлежали к числу лучших спектаклей, Созданных в то время московскими театрами.
Мне очень захотелось, чтобы мою еще не написанную пьесу поставили в Театре Ленинского комсомола, и я пошел к Берсеневу. Он встретил меня в своем маленьком тесном кабинете на первом этаже театра. Он только что пришел с затянувшейся репетиции (по — моему, он тогда начинал репетировать Сирано), но ни в его словах, ни в его поведении не проскальзывало и тени усталости. Высокий, стройный, красивый, доброжелательный, обаятельный и сознающий свое обаяние — он был весь, как бы это получше сказать, как элегантная пружина.
Я солгал ему, что вчерне уже написал пьесу, но, перед тем как начисто переписать ее, хочу, если он согласится меня послушать, рассказать ему содержание.
Он внимательно посмотрел на меня и быстро спросил (он вообще не любил долгих предисловий):
— Сколько нужно времени для того, чтобы закончить пьесу?
Я сказал: две недели. И, уже сказав, испугался, что вот сейчас он вполне резонно ответит мне: «Ну вот и прекрасно, через две недели и приходите, не с рассказом о пьесе, а с самой пьесой». Но он, выдержав очень короткую паузу, сказал совсем другое:
— Ну что ж, хорошо, рассказывайте.
Я ошибся, подумав, что ему было лень слушать рассказ о пьесе, которую он вскоре мог прочесть своими глазами. Ему вообще никогда и ничего не было лень, если дело шло об интересах его театра. В этом я впоследствии много раз убеждался.
Очевидно, я его чем‑то заинтересовал как возможный будущий автор, а через сколько времени будет закончена пьеса — он спросил, просто чтобы составить себе представление о том, насколько она готова уже сейчас.
— Раз через две недели, значит, почти готова, есть смысл послушать!
Я рассказал ему пьесу. Это заняло больше часа времени. Два- три раза в кабинет заглядывали люди, но Берсенев только поворачивал голову, делал короткое решительное движение пальцем, чтобы не мешали, и продолжал слушать.
Когда я кончил рассказывать, Берсенев закурил погасшую сигару, поглядел куда‑то мимо меня в потолок, соображая что‑то свое, имевшее отношение к планам театра, и коротко сказал: пьеса его интересует; если я действительно закончу ее через две недели и она понравится в театре, то ее можно будет поставить еще в этом сезоне, к июню.
Размышления столь практического свойства были неожиданны и от этого тем более радостны для меня.
Я ответил, что действительно окончу пьесу через пятнадцать дней.
Иван Николаевич, соображая, перелистнул стоявший на столе календарик и, уже вставая, сказал:
— Стало быть, вы принесете ее сюда, прямо ко мне!
Он назвал число, ровно на пятнадцать дней отстоявшее от даты нашего разговора.
— Надо пойти пообедать! — добавил он уже стоя. — Вечером играю.
Это было любезное извинение в том, что он не склонен дальше длить наш разговор.
По отношению к молодому автору это, пожалуй, было даже чересчур внимательно, но я был ему благодарен не за обходительность, а за тот деловой тон, который он взял со мной, указав и дату сдачи пьесы, и даже возможный срок постановки. Это был знак доверия. А оно‑то и было мне в тот день нужнее всего.
Через пятнадцать дней я принес пьесу.
Я встретил Ивана Николаевича в фойе, раздираемого что‑то спешившими ему сказать актерами и заведующим постановочной частью, тащившим его смотреть макет.
— А, принесли! — быстро пожимая мне руку, сказал Берсенев. — Давайте!
Он свернул пьесу в трубку, даже не взглянув на заглавие, и, небрежно зажав ее под мышкой, коротко протянул мне руку на прощание.
Только уже идя через фойе, он еще раз повернулся:
— Приходите ко мне послезавтра, во время «Норы», но не в кабинет, а наверх, в гримерную. У меня будет время между выходами!
Я пришел на «Нору» не между его выходами, а с самого начала.
Берсенев, как всегда (я видел этот спектакль уже три раза), превосходно играл Хельмера, а я сидел в зале, и в душе у меня шевелилось запоздалое сожаление: кажется, в моей пьесе нет роли, которую бы захотел играть сам Берсенев! Так оно и было на самом деле.
Когда в середине спектакля я поднялся наверх, к нему в гримерную, он ходил по ней с сигарой в зубах в костюме и гриме Хельмера, заложив пальцы в кармашки жилета. Лицо его было холодным и отчужденным и, я бы сказал, неприятным, несмотря на красоту. В гриме Хельмера красота его лица сразу лишалась обаяния и делалась какой‑то пошло — бесчеловечной.