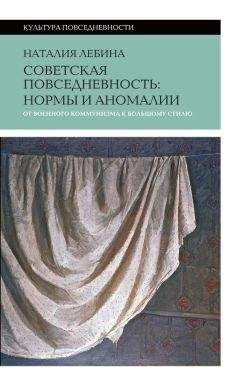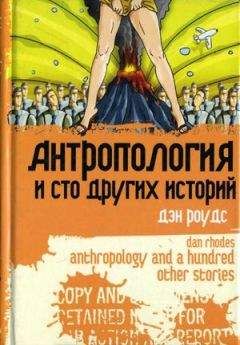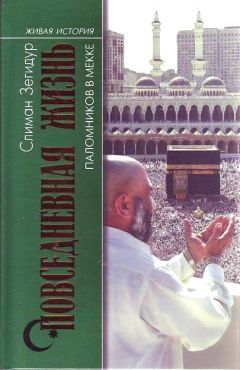Одновременно отрицание наиболее радикально настроенной частью большевистской верхушки буржуазной культуры порождало негативное отношение власти и к «буржуазному вкусу» в еде. В первую очередь это относилось к ритуалистике питания. П. Бурдье подчеркивал: «Способ подавать и есть пищу, расположение блюд и приборов… цензура всех телесных проявлений удовольствия от еды (таких, как шум или спешка) и, наконец, требование рафинированности самих кушаний… – это всецелое подчинение стилизации сдвигает акцент с субстанции и функции на форму и манеру, отрицая тем самым грубость и материалистичность акта еды и съедаемых вещей, что равноценно отрицанию фундаментальной материалистической вульгарности тех, кому доставляет удовольствие простое наполнение себя пищей и напитками»29. Не случайно М.А. Булгаков вложил в уста Полиграфа Полиграфовича Шарикова следующие слова, произнесенные во время обеда в адрес доктора Борменталя и профессора Преображенского: «Вот все у вас, как на параде… салфетку – туда, галстук – сюда… а так, чтобы по-настоящему, – это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме»30.
Власть подкрепляла антибуржуазность новых ритуалов питания и на визуальном уровне. Это касалось, в частности, практик создания особой «советской» посуды. Известно, что в начале XX века фарфор российского производства входил уже в состав традиционных предметов домашнего обихода горожан не только высшего, но и среднего слоя. Производство посуды, как ни странно, сумело сохраниться и в условиях Гражданской войны. Уже осенью 1918 года на предприятии стала изготовляться посуда, которая, по словам А.В. Луначарского, должна была «со всем изяществом выразить идею и чувства людей трудовых»31. В быт горожан вошел так называемый агитационный фарфор. На тарелках сначала размещали только лозунги, наиболее популярными из которых были: «Кто не работает, тот не ест» и «Пусть, что добыто силой рук трудовых, не поглотит ленивое брюхо»32.
В первые годы существования советского государства большевистский дискурс в сфере питания объективно приобретал выраженную антибуржуазную направленность. Это соответствовало преобладавшему в складывающейся пролетарской культуре характерному для крестьянской традиции восприятию пищи как сугубо насыщающей инстанции. Одновременно на уровне нормализующих суждений культивировалась мысль о значимости вкусовых пристрастий как своеобразного индикатора противостояния классов. Знаковый смысл для характеристики раннебольшевистских ориентиров в области питания носили строки:
Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй.
Граждане страны Советов против своей воли становились приверженцами того, что Бурдье называл «вкусом к необходимости», который власть пыталась представить как некую норму повседневности. В начале декабря 1920 года СНК, пока еще руководствуясь принципами политики военного коммунизма, принял декрет «О бесплатном отпуске населению продовольственных продуктов». Декрет начал действовать с 1 января 1921 года. Жители российских крупных городов, и прежде всего Москвы и Петрограда, оказались на грани настоящего голода. Таким образом, военно-коммунистические нормы распределения, обеспечивавшие существование коммунального питания и одновременное уничтожение свободной торговли, а также укрепление феномена «вкуса к необходимости», способствовали развитию своеобразных новых норм, связанных с культурой питания и носящих патологический характер.
Ситуация могла измениться лишь благодаря введению новой экономической политики, которая явилась способом наиболее рационального перехода российского общества от войны к миру, отказа от чрезвычайщины в быту, возвращения к традиционной, нормальной стилистике повседневности.
Началом новой экономической политики традиционно считают принятое Х съездом партии большевиков в марте 1921 года решение о замене продразверстки продналогом, вызывающее ассоциации в первую очередь с продовольственным вопросом. Естественно, что население ждало от грядущей реформы – нэпа – прежде всего перемен в повседневной жизни, в том числе улучшения питания, которое должно было приобрести не нормированные, а нормальные традиционные черты культуры еды.
Не случайно 4 марта 1921 года, в разгар Кронштадтского мятежа, ускорившего отказ от военно-коммунистической доктрины, в частности, и в сфере повседневности, петроградский историк-архивист Г.А. Князев записал в своем дневнике: «Теперь скоро булки будут, – так думают многие наивные люди. И ждут, как в феврале 1917 г., что с переменой правительства все сразу лучше будет… и булки будут»33. Однако и булки, и все остальное, с чем ассоциировалась мирная жизнь, появились нескоро. Несмотря на замену продразверстки продналогом, голод разразился в Поволжье и на Урале. Страдали от недоедания и жители крупных городов. Дневниковые записи и сводки о политических настроениях свидетельствуют о полуголодном существовании в 1921 году и рабочих, и служащих, и интеллигенции. Поэт М.А. Кузмин отмечал в дневнике: «27 марта. Обед был скверный. Голодновато»; «7 июня. Ели, ели и плохо. Какое-то тухлое масло. Овсяная каша, как жеваная. Везде смех и анархия, голод, чума и т.п.»; «7 июля. Пошли отыскивать хлеб»; «2 августа. Впроголодь»; «10 августа. В доме ничего нет, только молоко»; «21 августа. Ели картошку с американским салом, от которого скоро меня начнет тошнить»; «1 октября. Хлеба нет нигде»34. Те же настроения присутствуют в дневнике уже упоминавшегося Г.А. Князева: «16 апреля 1921 г. Опять плохо питаемся. Еле ноги таскаю. По утрам с трудом встаю»35. Органы политического контроля зафиксировали летом и осенью 1921 года стойкое недовольство граждан продовольственной политикой власти. «Ужасно, голод вернулся, 18-й год опять – одни селедки»; «Вот наша пища – селедки и невская вода»; «Недавно варили суп с тюлениной, но этого уж граждане не вытерпели и устроили скандал» – это выдержки из перлюстрированных писем петроградцев в 1921 году36. Еще медленнее ситуация менялась в провинции. В сводках челябинского губчека за 1921 год констатировалось: «Население вступает в фазу абсолютной голодовки, так как суррогаты, овощи и скот, бывшие первостепенным продуктом питания, в большинстве случаев съедены»37. Одновременно власть медленно и во многом неохотно, но все же формировала пласт нормативных суждений, направленных на улучшение обеспечения населения продовольствием. В конце мая 1921 года СНК принял декрет «Об обмене», разрешив тем самым торговлю излишками продуктов не только на рынках, но и в закрытых помещениях. Еще почти через два месяца, в конце июля 1921 года, появилась инструкция СНК о разрешении открывать такие заведения в первую очередь в Москве и Петрограде. Уже 17 августа 1921 года архивист Князев зафиксировал в дневнике: «В городе открываются лавки, их уже десятки, сотни. Продается все, что угодно, даже лимоны…»38.
Но ситуация со свободной продажей населению крупных городов продуктов питания стала меняться в лучшую сторону лишь в начале осени 1921 года, когда была разрешена, наконец, свободная торговля хлебом. Мемуаристика и художественная литература 1920-х годов наполнены описанием бойкой торговли именно хлебобулочными изделиями. Солидарны друг с другом две бывшие россиянки, в годы Великой Отечественной войны оказавшиеся вынужденными эмигрантками, позднее ученые-филологи: жившая до 1925 года в Поволжье Е.А. Скрябина и псковитянка В.А. Пирожкова. Скрябина вспоминала, что в Нижнем Новгороде в начале нэпа поражали «частные булочные с прекрасными калачами и другими произведениями кулинарного искусства, от которых глаз совсем отвык»39. «Время НЭПа для меня, ребенка, – отмечала Пирожкова, – было связано с булочной (в Пскове. – Н.Л.)… где были такие пышные булки, вкусные пирожные и такая же пышная, как эти булки, булочница…»40 Изобилие поразило и эмигранта К. Борисова во время его недолгого визита в Москву в 1923 году. В известной до революции Филипповской булочной на Тверской, по его словам, были «хлеб черный, рижский, полубелый, ситный простой, ситный с изюмом, булки всех видов, чуть ли не двадцать сортов сухарей, баранки, пирожки, пирожные»41. Хлебом, который лежал в основе традиционно русского питания, стали торговать и в кооперативных магазинах. Новая экономическая политика послужила толчком для их развития. В Ленинграде, например, в руках кооперации в середине 1920-х годов находилось почти две трети хлебопекарен. Современники вспоминали о «кирпичике» из белой муки, на нижней корке которого отчетливо выступали четыре крупные буквы «ЛСПО» – Ленинградский союз потребительских обществ.