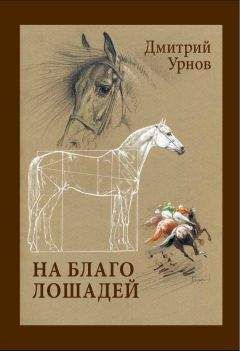— Преображенцы стояли насмерть, — сказал Трофимыч.
Деревня давно спала. На трубе скорчился дым. Наши тени ходили по земле. Неподалеку от обелиска в память преображенцев мы отыскали среди пахоты ложбину, не тронутую плугом, и кусты. «Но тих был наш бивак открытый…» Мы пустили лошадей. Я стал ломать хворост. Трофимыч растянул на земле старый резиновый плащ, и через минуту, когда костер потрескивал, хлеб, огурцы и колбаса лежали перед нами, я готов был начать: «Скажи-ка, дядя…»
— Тут должно быть порядочно братских могил, — вздохнул Трофимыч, — я хотел бы отыскать свой полк.
— Какой же ваш полк, Трофимыч?
— Пятый, — отвечал старик. — Переяславский уланский, серебряные трубы за дело при Наварине и бунчук на знамя за дело при Пльзнянке полк.
Хотелось спросить Трофимыча о чем-нибудь для него приятном. «Сколько вы получили наград?» — можно было поинтересоваться. Трофимыч отвечал бы, улыбнувшись: «Три Георгия. Почти полный кавалер. — Тут же, однако, на губах его обычно появлялась складка. — Крестов этих у меня давно нет».
Вручал великий князь Константин: «От имени его императорского величества… От имени его императорского величества. Ты какой губернии?» Отвечаешь: «Тульской». — «От имени его императорского величества. Какой губернии?» — «Смоленской». — «От имени его императорского величества…» Потом перед строем произнес слова: «Сражайтесь, братцы, так же доблестно за царя, за матушку Россию!» — и уехал. Прошло несколько дней, и кресты отбирают. Как! Что такое? «Ничего, ничего, — говорят, — другим крестов не хватает». — «Скоро на могилы крестов не хватит!» — крикнул один солдат.
«Три раза и у меня отбирали. Одни номера остались», — заканчивал совсем печально Трофимыч. Про кресты напоминать не годится. Я подбросил веток в огонь.
— Спойте!
Не переводя дыхания и не меняя положения на земле, старик запел. Пение было похоже на крик. Голоса у Трофимыча уже давно не было. Только паузы сохраняли ритм и дребезжание связок — подобие мелодии. Старался Трофимыч, однако, так, будто шел запевалой целой армии:
Там льются кровавые потоки
С утра до вечерней зари.
Слышно, должно быть, было далеко. Если кто-нибудь слышал! Но ни в кругу, выхваченном огнем нашего костра, ни в целом поле с обелисками, а также в деревнях Семеновское, Бородино и Шевардино никто не мог откликнуться нам. Только, пока Трофимыч переводил дыхание, приступая к новому куплету, слышался упорный скрип дергача.
Ночь была теплая. Из наших ртов не вырывался пар. От костра подымался дым, мешаясь с туманом. Огонь был маленький. Его язычки кидались то вправо, то влево, не зная, за что схватиться.
Убит он в чужом государстве,
В чужом, незнакомом краю,
Никто не придет на могилу
Приветить могилу твою.
Старика сменил дергач своим упорным скрипом. Песня вызывала у Трофимыча легион воспоминаний. Он сказал:
— На войне страшно.
«Пули так и свистят», — я ждал, должен сейчас произнести он.
— Фью, фью, фью, фью! — нагибая голову, кричал затем Трофимыч.
«Особенно атака», — едва опережая его слова, повторял про себя я. — С лошадью делается бог знает что, страх и ужас. Батюшки! Командир полковник — фамилия фон Краузе — подает команду: «Пики в руку! Шашки вон! В ата-аку!»
— Марш, марш, марш! — кричал затем Трофимыч.
«Немцы выскакивают из укрытий, — ждал я, пока он скажет, — стреляют, кричат».
— Хальт! Хальт! Хальт! Хальт! — кричал по порядку Трофимыч что было сил.
Один в поле воин, он расшумелся на все Бородино.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый.
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус…
«Кусая свой длинный ус», — прочел бы, непременно пугаясь, Трофимыч.
Туман уполз на край поля. Луна закатилась. Дергач продолжал скрипеть.
От криков Трофимыча поле оживилось. В красивой темноте — и туман, и белеющая дорога, и пики памятников — все было готово к тому, чтобы преображенцы поднялись. Поднялись и прошли перед нами за строем строй, радуя Трофимыча блеском выправки. Готова дорога и поле. Прошли бы все — и преображенцы, сражавшиеся здесь насмерть, и те, что когда-то на глазах Трофимыча полегли на чужой земле, еще раз встретился бы все тот же солдат…
Дергач своим упорным скрипом пугал видения.
Наш костер уже тлел.
— Трофимыч, — сказал я, — пойдемте на ночлег.
Мы оставили позиции Преображенского полка и, миновав огород, оказались в деревне Семеновское. Отыскался стог сена, где мы и устроились до утра. Когда все затихло, я, чтобы сказать «Как хорошо!», окликнул:
— Трофимыч!
Он ровно дышал.
Поднимался второй рассвет. Первый рассвет застал нас у конюшен: солнце находилось за ближним лесом. Теперь перед нами было поле, мы могли видеть линию горизонта. По ней пробегали лучи. Хотя было раннее утро, уже становилось понятно, что день выдается жаркий.
Мы по-прежнему находились неподалеку от позиций Преображенского полка, теперь можно было прочесть всю надпись на обелиске, который высился посреди огорода, и Трофимыч, услыхав слова «Вечная память героям», заметил:
— Доблесть не забывается! Хорошо бы, — продолжал он, — отыскать свой полк… Где-то он стоял?
Мы двинулись по дороге через Семеновское. Куры перебегали наш путь. Мимо прогнали лошадей, и мы посмотрели критически на их тусклую шерсть.
— Всю жизнь я отдал на благо лошадей, — произнес Трофимыч.
Начинался трудовой день. От кузни, конторы и скотного двора отъезжали рабочие на машинах, тракторах и подводах. Мы подъехали к музею войны 1812 года; словно древнюю крепость, его оберегали орудия. Музей был еще закрыт. В противоположную сторону тропинка вела на батарею Раевского. Мы оставили лошадей внизу и взобрались по ступеням на этот холм с плоской вершиной. Отсюда был далекий вид. Мы отыскали Багратионовы флеши и Шевардинский редут — места, на которых нам еще предстояло побывать. До них было несколько километров. «Время поэтизирует даже поле битвы», — неплохо сказано в одном новейшем романе. Глядя на перелески и рощицы, на спелую рожь с памятниками посреди безбрежной желтизны, нельзя было вообразить здесь кровь и ужас.
Солнце поднялось довольно высоко. Оно блестело на крышах домов, на обелисках, на стволах пушек и, казалось, должно было играть своими лучами на меди труб.
Трофимыч окинул выцветшими глазами поле и произнес:
И залпы тысячи орудий
Слились все в один протяжный вой.
Мы спустились с батареи Раевского. Музей был все еще закрыт. Мы заглянули в окно, и Трофимыч стал жадно разглядывать мундиры.
— Этишкет, ташка! — восклицал он, узнавая снаряжение, а потом вздохнул: — Мне бы таблички под ними почитать…
Это было нам недоступно. Мы решили проехать пока что к Багратионовым флешам. По дороге Трофимыч то и дело останавливался у встречных памятников с возгласом:
— Мой полк!
Всякий раз обнаруживалась ошибка. Мы перебрались через ручей. Это был слабенький приток речки Утицы или Колочи. Его кристальная струя давно не несла намека на кровавый поток. За ручьем начиналась роща. Жарко. Редкие облака, похожие на разрывы снарядов и клубы порохового дыма, стояли в небе. Опять показалась пахота. Мы пересекли поле и на границе его с перелеском обнаружили поваленный памятник.
Только что будто бы разорвался снаряд.
Надписей на обелиске не сохранилось. Судя по отверстиям на одной из его граней, буквы были просто сняты. Удержался один барельеф. Я узнал в нем профиль Багратиона.
— Доблесть не забывается, — произнес Трофимыч.
Мы взошли на Багратионовы флеши. Строй берез окружает бруствер. Здесь мы решили закусить. Трофимыч почти ничего в рот не взял. Он жаловался на жару. Я предложил в тени отдохнуть. Он отказался.
— Проедемте в Шевардино, — попросил он. — Там, говорят, порядочно братских могил и может встретиться мой полк.
По дороге мы обогнули стену монастыря, где в храме были некоторые гробницы героев. Трофимыч, завистливо глядя через щель в запертых дверях, пытался прочесть надписи.
Война, о которой и у меня была память детства — небо в аэростатах, бомбежки, поезда, — оставила свои шрамы на памятниках, воздвигнутых в столетие Бородина.
— В девятьсот двенадцатом году, — сказал Трофимыч, — на Московском ипподроме был разыгран приз в честь столетия Бородинского боя.
Откликнулись французы. Всем любопытно было, что они покажут. Тогда повсюду в России отмечали память войны 1812 года, и хотелось еще раз помериться силами с французами. Пусть не на поле битвы, а на дорожке ипподрома.