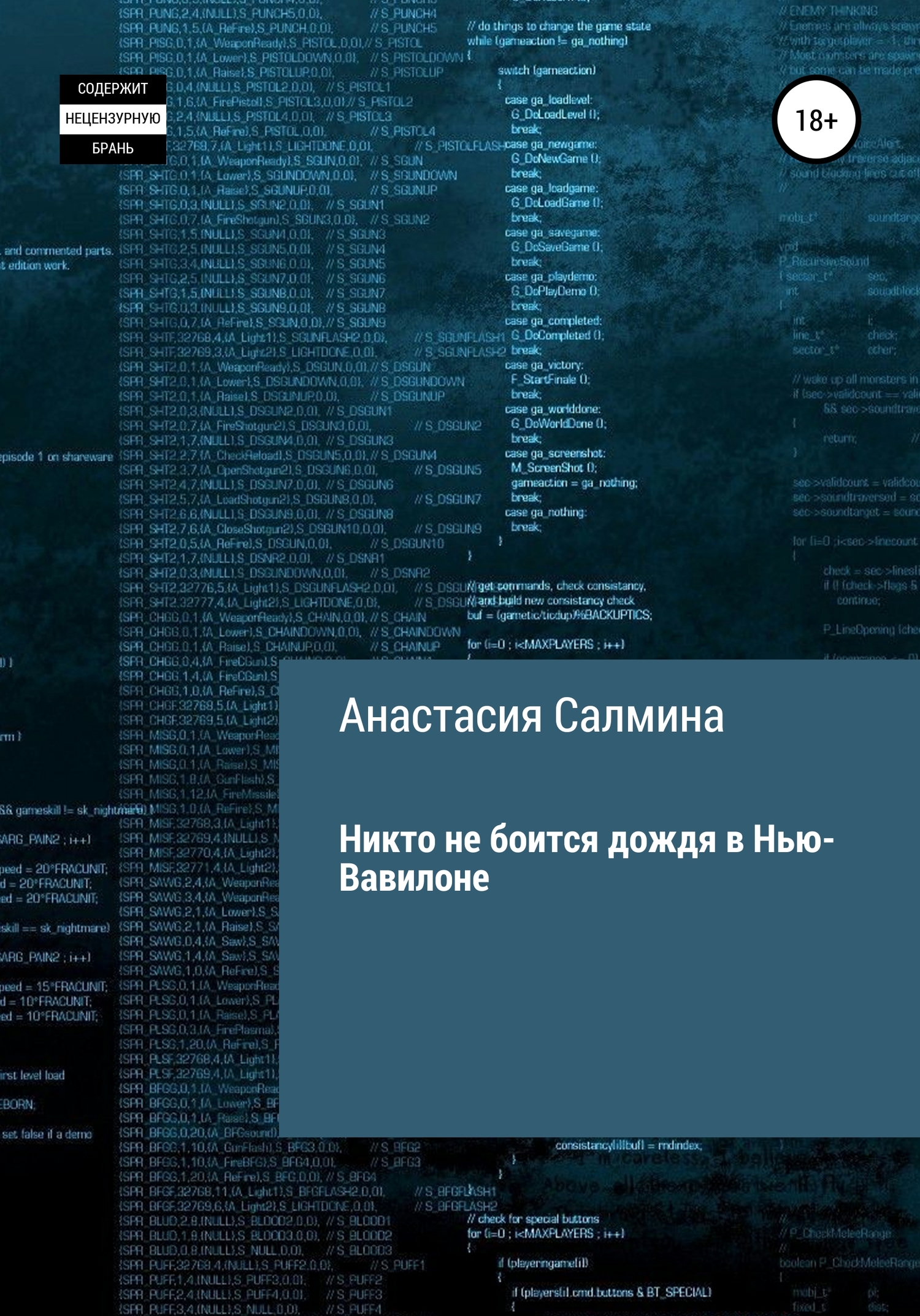что сложно было сказать, спит он или…
– Или сейчас же откройте вагончик! – донеслись до меня отчаянные крики, – Вы что, сами-то не люди? Человек задохнется, и это будет на вашей совести.
Я подхватил последнее слово и положил его прямо под каски дежурных, чтобы оно еще долго отдавало им эхом, проникало глубоко внутрь, туда, где эта самая совесть крепко спала.
Наконец, их убедили снять пломбу. Дверь оказалась заперта изнутри. Активисты, дежурные, я – мы все вместе стали стучать в вагончик, кидать в него ветки. Через несколько минут дверь открылась, дым выплюнул наружу Ивана Иваныча. Я попытался подхватить его, но друг оказался слишком тяжелым для меня. Он упал прямо перед ногами полицейских.
Скорая долго везла его в больницу. Я толкал машину, когда она застревала в подтаявших ямах, придерживал ее на скользких поворотах и всё пытался разглядеть сквозь непрозрачное стекло моего Иван Иваныча. Я увидел его бледно-серое лицо только раз, когда помогал санитарам, поддерживая носилки. «Отравление угарным газом», – пояснил мне кто-то из них перед тем, как его отобрали у меня. Они ошиблись с диагнозом. Я был уверен, что это отравление ядовитой реальностью.
В терапевтическом отделении, куда его перевели не так давно, было спокойно. Единственное, что угрожало жизни Иван Иваныча, – это необходимость оставаться пока в больничной палате, но он не унывал. Из окна был виден лес, ему нравилось представлять, что где-то там стоит дом. Его не было видно только из-за зеленеющих крон деревьев, а вовсе не потому, что он находился в другой стороне.
Я точно знаю, что Иван Иваныч думал об этом. Потому что он сам мне рассказывал. Открывал окно в палате нараспашку (хоть врачи и ругались на него) и впускал меня внутрь.
– Ну что, старый северный ветер, расскажи мне, что там в мире делается? – спрашивал он меня.
И я рассказывал ему, как мог. Иногда говорил обрывками пойманных где-то фраз, иногда чириканьем птиц. Я всегда приносил с собой свежий лесной воздух, запах влажной почвы, сладковатый аромат мать-и-мачехи, а как-то раз мне удалось поднять до его этажа маленький зеленый листок. Он улыбнулся, поймал его и бережно положил в карман рубашки. Словно догадался, что этот подарок я нес от самого Шиеса.
О Шиесе мы больше не говорили. Он узнавал все новости из газет, которые приносили ему санитары, или от активистов, которые навещали его, непременно принося целебный для Иван Иваныча иван-чай, засушенный по особому рецепту. Он выздоравливал быстро, наверное, потому, что недавно стало известно: Шиес наш. Его отстояли. Вскоре после этого события мы вместе вернулись домой.
Тихо, почти шепотом, он говорит мне: «Знаешь, Старый Ветер, мне даже немного грустно, что Шиес закончился. Не потому, что уехали волонтеры; не потому, что мы с тобой остались одни. А потому, что про нас теперь забудут… да уже забыли. Про всю Архангельскую область. Раньше говорили, нет – кричали! Вспомнили вдруг, что есть такая. А сейчас что? Тьфу-ты. Величайшим подарком за отвоеванный Шиес станет забвение, молчание. И никому этот регион уже не понадобится; ни для свалки, ни для чего. Ветер перемен дует не в нашу сторону. Прав я, Старый Ветер?»
Здесь уже давно никто не живет, кроме меня и того мужчины, стоящего между деревьями. Я не знаю, как его зовут, – не слышал. Про себя я называю его Иван Иваныч, и он, кажется, не против.