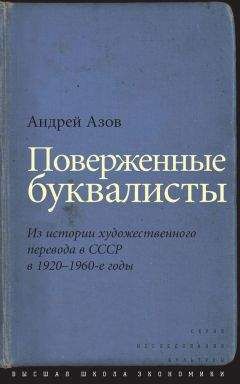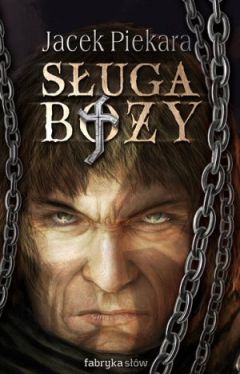Дословно:
Подумайте, если тогда будет откопан Георг Четвертый!
Как тогда человечки тогдашнего нового Востока
Будут дивиться: где такие животные могли питаться!
(Ибо они сами станут лишь мелкотой:
Даже миры истощаются, когда слишком часто щенятся,
И каждое новое творение убывает
В объеме, за израсходованностью материала…
Люди – лишь черви какого нибудь погребенного огромного мира.
В двух предыдущих строфах Байрон говорит о мировых катаклизмах, о Кювье, об ископаемых мамонтах и «крылатых крокодилах» (winged crocodiles). В этой строфе он иронически переходит к другому «чудищу», королю Георгу IV, которого откопают через сотни веков на тогдашнем Востоке (мамонтов ведь находят во льдах восточной Сибири, а отклонение земной оси способно сместить румбы компаса); чтобы обосновать изумление будущих людей перед этим «чудищем», Байрон вводит тему измельчания людского рода. Всё ясно, если брать строфу в контексте.
Я перевожу так:
Вдруг будет выкопан Георг Четвертый! – Тут
Все выпучат глаза на новом том Востоке:
Чем сыт был зверь такой?! (Он измельчает – люд;
Мир вырождается, когда подходят сроки:
Ведь размножение весьма тяжелый труд;
Всё тот же матерьял и те же всё истоки, —
Ну и мельчает всё. Пожалуй, человек —
Лишь гробовой червяк, что гложет мертвый Век.
Кашкин подчеркивает, якобы не понимая, слова «на новом том Востоке» (точно по оригиналу), «он измельчает – люд» (абсолютно русский оборот), и наконец всю последнюю строку: ему, очевидно, «непонятно», кто кого гложет. И всё это для того, чтобы написать:
Теснота и косноязычие здесь обессмысливают текст (231,2, 2).
В чем же «теснота» и где «косноязычье»?
Читатель по достоинству оценит эту «оценку»… Дальше. Кашкин пишет:
Простая мысль Байрона, что Беркли в своей философии превращает вселенную в сплошной вселенский эгоизм [подчеркнуто здесь мною. – Г. Ш.], в передаче Ш становится сплошной абракадаброй (231, 2, 5).
Прежде всего, укажу кандидату филологических наук, что Байрон такой глупости не говорит. Он говорит об ЭГОТИЗМЕ (= солипсизму), а не об эгоизме[118].
Это не однозначные понятия, что известно каждому студенту философских наук. Неужели Кашкин никогда не раскрывал «Материализм и эмпириокритицизм» В.И. Ленина, где блестящие страницы отведены Беркли и берклеанству?..
Вот что говорит Байрон (XI, 2):
What a sublime discovery’t was to make the
Universe universal egotism,
That all’s ideal – all ourselves! I’ll stake the
World (be it what you will) that that’s no schism.
Oh Doubt! – if thou best Doubt, for which some take Thee,
But which I doubt extremely – thou sole prism
Of the Truth’s rays, spoil not my draught of spirit!
Heaven’s brandy, though our brain can hardly bear it.
Дословно:
Что это было за возвышенное открытие – сделать
Вселенную универсальным эготизмом,
Где всё идеально, всё – мы сами! Я ставлю (о заклад)
Мир (будь он всё, что вам угодно), что это – не схизма.
О Сомнение! – если ты то Сомнение, за которое многие тебя принимают,
Но в чем я весьма сомневаюсь, – ты, единственная призма
Для лучей Истины, не отнимай моей тяги к духу,
К этой небесной водке, хоть наш мозг с трудом выносит ее.
Здесь играют слова universe-universal, brandy-brain; слово spirit означает и «спирт», и «дух», что дает основание Байрону называть «идеальное» «небесной водкой».
Как видим, строфа весьма сложна в оригинале, синтаксически очень многослойна, трудна интонационно (заметим, что в 1-й и 3-й строках на рифму выдвинут артикль, в произнесении неотделимый от существительного). Что же удивительного в том, что такая конструкция не под силу некоторым – скажем вежливо – умам?
В моем переводе строфа звучит так:
Что за открытие! Вселенье эготизма
Во всю вселенную! Мир идеала – мы!
Но эта мысль (клянусь! мир о заклад!) не схизма.
Сомненье! Коль тебя сомненьем все умы
Чтут одинаково (сомнительно!), – ты, призма
Для света Истины, не стой на страже тьмы.
Дай Spiritus мне пить (не спирт: здесь нет описки),
Хоть многим он стучит в виски, – небесный виски.
Что здесь мы видим? Прежде всего – весьма точный перевод, в котором сохранены и мысль, и тон, и манера подлинника, и его ирония; в котором затем воспроизведена игра слов. И хотя «добавлен некий Spiritus», как пишет Кашкин (232, 1, 1), но добавлен он для раскрытия двоесмыслицы со словом spirit («дух», «спирт»).
Но Кашкин вопиет: «разве это стихи»? А что же это, – Эллиот, что ли? Кашкин исходит яростью: «И, главное, разве это ясное выражение байроновского выпада против идеалиста-мракобеса?» (там же). Столь же ясное, сколь ясно у Байрона, – у которого, впрочем, не выпад, а тонкая ирония: он даже делает вид, что готов согласиться с Беркли («не схизма»), и умоляет сомнение не мешать ему пить «небесную водку». Это понимать нужно!
А вот Козлов (в переводе именно этой, ВТОРОЙ, строфы, а не ПЕРВОЙ, перевод которой подсовывает читателю на следующей странице Кашкин), пишет:
Во всей природе видеть лишь себя,
Ее за дух считая, толку мало;
Но ереси не вижу в этом я;
Свести сомненье надо с пьедестала, (?)
Чтоб, веры в дух и правды не губя, (??)
Оно нас не лишало идеала. (???)
Хоть от него порой несносна боль,
Всё ж идеал – небесный алкоголь.
Судя по этому переводу, Байрон – тупица, нанизывающий взаимоисключающие утверждения. Но, кое-кому, видимо, Байрон в таком гриме нравится больше…
Итак, оба «ребуса», обе «абракадабры» существуют лишь в сознании моего критика. Так, один путешественник по Сибири уверял, что вся страна пахнет собакой, крашеной под енота. Но он – всю дорогу обонял воротник собственной шубы…
Перейдем теперь ко главному боевому слону Кашкина, – к его утверждению, НАСКВОЗЬ КЛЕВЕТНИЧЕСКОМУ о том, что я «исказил образ Суворова», причем – по всем намекам – сознательно, намеренно, злонамеренно!
СПРАШИВАЮ ВНОВЬ: а для чего бы я, русский и советский человек, стал это делать?..
Кашкин пишет:
Особенно ясно видно искажение Георгием Шенгели смысла байроновской поэмы в том, как воспроизвел переводчик образ Суворова (232,1, 4).
Как Иван Кашкин искажает истину, также особенно ясно видно из данного им разбора тех мест моего перевода, где речь идет о Суворове, – что сейчас будет доказано.
Но клевета об Искажении Образа Суворова (в дальнейшем, ввиду частого повторения этой формулы, я буду применять аббревиатуру ИОС) – имеет свою историю.
На упоминавшемся выше (стр. 18)[119] собрании 11/Ш 48 Кашкин, впавший в свой критический делириум, в течение часа разнося и понося мой перевод, ни единым словом не обмолвился об ИОС. Ни словом, ни вздохом, ни взвизгом! Следовательно: либо он не читал моего перевода, а только полистал его, чтобы уловить для своего критического пиршества парочку блох, либо никакого ИОС (за полным отсутствием такового) не усмотрел.
Спустя два с лишним года, на собрании переводчиков, посвященном общим вопросам перевода, выступила некая Егорова, бывший редактор Детгиза (чей путь из Детгиза отнюдь не был устлан фиалками), и, поговорив о том, о сем, обрушилась на мой перевод с вопросом об ИОС. – «А как в оригинале?» – спросил кто то с места. На это гр. Егорова дала классический ответ: «Мне нет дела до оригинала!» Этот плодотворный принцип усвоил, как мы уже видели, Кашкин и положил в основу всей своей критики. Отмечу в скобках, что гр. Егоровой, не-члену CCEI, неведомо как попавшей на закрытое собрание, после собрания адъютантессы Кашкина трясли руку и благодарили.
Немедленно выступил и засиявший Кашкин и понес ту же чушь. На следующий день выступил я и, с текстами и словарями в руках, доказал, что я правильно понял и верно перевел «суворовские строки» ДЖ, и что так же их понимали и переводили мои предшественники: и Козлов, и Соколовский, и Каншин, и француз Ларош[120]. Но это не помешало Кашкину и его кружку «стоять на своем». Инстинкты ведь сильнее разума…
С этого момента и пошло! При каждом удобном случае адепты того переводческого ордена, где первосвященствует Кашкин, шептали, говорили и кричали об ИОС, а в Гослитиздате сколотили упомянутую «комиссию по качеству» (список членов которой весьма любопытен), состряпавшую разгромный разбор ДЖ, не возымевший – к чести гослитиздатовского руководства – никаких (тогда!) последствий. Я не читал этой кляузы; мне лишь сообщили ее «выводы».
Так как, безотносительно к ДЖ, вскоре раздались с трибуны секции переводчиков (из уст ее председателя, М.А. Зенкевича) требования переделки переводимых текстов, приспособления их к нашим взглядам, – то меня взяло сомнение: «а может быть, действительно, надо было отойти от Байрона, смягчить его формулировки, дать ретушь?». Я отважился послать письмо по самому высокому адресу страны (с приложением английского текста, дословного и моего перевода) и спрашивал: вправе ли переводчик отходить от оригинала и не вызовет ли такая ретушь неблагоприятный внешнеполитический резонанс? Мне было отвечено – тов. Чукановым, работником ЦК, – что центральная партийная пресса уже высказалась о недопустимости каких либо «обработок» классиков, о необходимости переводу быть точным[121] – и сообщено, что мой перевод «суворовских мест» ДЖ возражений не вызывает.