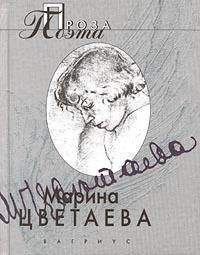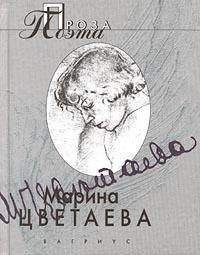Смотрит взглядом ваятеля или даже резчика по дереву — на чурбан — кстати, глаза точь — в-точь как у Врубелевского Пана: две светящиеся точки — и, просительно:
— А нельзя ли было бы уж зараз снять и…
Я:
— Очки?
Он, радостно:
— Да, да, очки, потому что, знаете, ничто так не скрывает человека, как очки.
Я, на этот раз опережая жест:
— Но предупреждаю вас, что я без очков ничего не вижу.
Он спокойно:
— Вам видеть не надо, это мне нужно видеть.
Отступает на шаг и, созерцательно:
— Вы удивительно похожи на римского семинариста. Вам, наверно, это часто говорят?
— Никогда, потому что никто не видел меня бритой.
— Но зачем же вы тогда бреетесь?
— Чтобы носить чепец.
— И вы… вы всегда будете бриться?
— Всегда.
Он, с негодованием:
— И неужели никто никогда не полюбопытствовал узнать, какая у вас голова? Голова, ведь это— у поэта— главное!.. А теперь давайте беседовать.
И вот беседа — о том, что пишу, как пишу, что люблю, как люблю — полная отдача другому, вникание, проникновение, глаз не сводя с лица и души другого — и каких глаз: светлых почти добела, острых почти до боли (так слезы выступают, когда глядишь на сильный свет, только здесь свет глядит на тебя), не глаз, а сверл, глаз действительно — прозорливых. И оттого, что не больших, только больше видящих — и видных. Внешне же: две капли морской воды, в которой бы прожгли зрачок, за которой бы зажгли — что? ничего, такие брызги остаются на руках, когда по ночному волошинскому саду несутся с криками: скорей! скорей! море светится! Не две капли морской воды, а две искры морского живого фосфора, две капли живой воды.
Под дозором этих глаз, я тогда очень дикая, еще дичаю, не молчу, а не смолкаю: сплошь — личное, сплошь — лишнее: о Наполеоне, любимом с детства, о Наполеоне И, с Ростановс- кого «Aiglon»[106], о Саре Бернар, к которой год назад сорвалась в Париж, которой там не застала и кроме которой там все‑таки ничего не видела, о том Париже — с N majuscule повсюду — с заглавным N на взлобьях зданий — о Его Париже, о моем Париже.
Улыбаясь губами, а глазами сверля, слушает, изредка, в перерывы моего дыхания, вставляя:
— А Бодлера вы никогда не любили? А Артюра Рембо — вы знаете?
— Знаю, не любила, никогда не буду любить, люблю только Ростана и Наполеона I и Наполеона II — и какое горе, что я не мужчина и не тогда жила, чтобы пойти с Первым на св. Елену и с Вторым в Шенбрунн.
Наконец, в секунду, когда я совсем захлебнулась:
— Вы здесь живете?
— Да, то есть не здесь, конечно, а…
— Я понимаю: в Шенбрунне. И на св. Елене. Но я спрашиваю: это ваша комната?
— Это — детская, бывшая, конечно, а теперь Асина, это моя сестра — Ася.
— Я бы хотел посмотреть вашу.
Провожу. Комната с каюту, по красному полю золотые звезды (мой выбор обоев: хотелось с наполеоновскими пчелами, но так как в Москве таковых не оказалось, примирилась на звездах) — звездах, к счастью, почти сплошь скрытых портретами Отца и Сына— Жерара, Давида, Гро, Лавренса, Мейссонье, Верещагина — вплоть до киота, в котором богоматерь заставлена Наполеоном, глядящим на горящую Москву. Узенький диван, к которому вплотную письменный стол. И все.
Макс, даже не попробовавший протиснуться:
— Как здесь — тесно!
Кстати, особенность его толщины, вошедшей в поговорку. Никогда не ощущала ее избытком жира, всегда — избытком жизни, как оно и было, ибо он ее легко носил (хочется сказать: она‑то его и носила!) и со своими семью пудами никогда не возбуждал смеха, всегда серьезные чувства, как в женщинах любовь, в мужчинах — дружбу, в тех и других — некий священный трепет, никогда не дававший сходиться с ним окончательно, вплотную, великий барьер божественного уважения, то есть его божественного происхождения, данный еще и физически, в виде его чудного котового живота.
— Как здесь тесно!
Действительно, не только все пространство, несуществующее, а весь воздух вытеснен его зевесовым явлением. Одной бы его головы хватило, чтобы ничему не уместиться. Так как сесть, то есть пролезть, ему невозможно, беседуем стоя.
Вкрадчивый голос:
— А Франси Жамма вы никогда не читали? А Клоделя вы…
В ответ самоутверждаюсь, то есть утверждаю свою любовь к совсем не Франси Жамму и Клоделю, а — к Ростану, к Ростану, к Ростану.
Et maintenant il faut que Ton Altesse dorme…[107]
— Вы понимаете? Тон (любовь) — и все‑таки Altesse!
Ame pour qui la mort fыt une guйrison…[108]
— A для кого — не?
Dome dans le tombeau de sa double prison,
De son cercueil de bronze et de son unifome [109].
— Вы понимаете, что Римского короля похоронили в австрийском!
Слушает истово, теперь вижу, что меня, а не Ростана, мое семнадцатилетнее во всей чистоте его самосожжения — не оспаривает — только от времени до времени — робко:
— А Анри дс Ренье вы не читали, — «La double maоtresse»[110]? А Стефана Малларме вы не…
И внезапно — au beau milieu Victor Hugo’cкойо оды[111] Наполеону II — уже не вкрадчиво, а срочно:
— А нельзя ли будет пойти куда‑нибудь в другое место?
— Можно, конечно, вниз тогда, но там семь градусов и больше не бывает.
Он, уже совсем сдавленным голосом:
— У меня астма, и я совсем не переношу низких потолков, — знаете… задыхаюсь.
Осторожно свожу по узкой мезонинной лестнице. В зале — совсем пустой и ледяной — вздыхает всей душой и телом и с ласковой улыбкой, нежнейше:
— У меня как‑то в глазах зарябило — от звезд.
Кабинет отца с бюстом Зевеса на вышке шкафа.
Сидим, он на диване, я на валике (я — выше), гадаем, то есть глядим: он мне в ладонь, я ему в темя, в самый водоворот: волосоворот. Из гадания, не слукавя, помню только одно:
— Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем помечтать. Ушел подальше, чтобы помечтать, подольше. Кстати, я должен идти, до свиданья, спасибо вам.
— Как? Уже?
— А вы знаете, сколько мы с вами пробеседовали? Пять часов, я пришел в два, а теперь семь. Я скоро опять приду.
Пустая передняя, скрип парадного, скрип мостков под шагами, калитка…
Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем помечтать.
— Барышня, а гость‑то ваш — никак, ушли?
— Только что проводила.
— Да неужто вам, барышня, не стыдно — с голой головой — при таком полном барине, да еще кудреватом таком! А в цилиндре пришли — ай жених?
— Не жених, а писатель. А чепец снять — сам велел.
— А — а-а… Ну, ежели писатель— им виднее. Очень они мне пондравились, как я вам чай подавала: полные, румяные, солидные и улыбчивые. И бородатые. А вы уж, барышня, не сердитесь, а вы им, видать — ух! — пондравились: уж так на вас глядел, уж так на вас глядел: в са — амый рот вам! А может, барышня, еще пойдете за них замуж? Только поскорей бы косе отрость!
Через день письмо, открываю: стихи:
К вам душа так радостно влекома!
О, какая веет благодать
От страниц Вечернего Альбома!
(Почему альбом, а не тетрадь?)
Отчего скрывает чепчик черный
Чистый лоб, а на глазах очки?
Я отметил только взгляд покорный
И младенческий овал щеки.
Я лежу сегодня — невралгия,
Боль, как тихая виолончель…
Ваших слов касания благие
И стихи, крылатый взмах качель,
Убаюкивают боль: скитальцы,
Мы живем для трепета тоски…
Чьи прохладно — ласковые пальцы
В темноте мне трогают виски?
Ваша книга — это весть оттуда,
Утренняя благостная весть.
Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко слышать: чудо — есть!
Разрываясь от восторга (первые хорошие стихи за жизнь, посвящали много, но плохие) и только с большим трудом забирая в себя улыбку, — домашним, конечно, ни слова! — к концу дня иду к своей единственной приятельнице, старшей меня на двадцать лет и которой я уже, естественно, рассказала первую встречу. Еще в передней молча протягиваю стихи.
Читает:
— «К вам душа так радостно влекома — О, какая веет благодать— От страниц Вечернего Альбома— Почему альбом, а не тетрадь?»
Прерывая:
— Почему — альбом? На это вы ему ответите, что в тетрадку вы пишете в гимназии, а в альбом — дома. У нас в Смольном у всех были альбомы для стихов.
Почему скрывает чепчик черный
Чистый лоб, а на глазах — очки?
А, вот видите, он тоже заметил и, действительно, странно: такая молодая девушка, и вдруг— в чепце! (Впрочем, бритая было бы еще хуже!) И эти ужасные очки! Я всегда вам говорила… — «Я отметил только взгляд покорный и младенческий овал щеки». — А вот это очень хорошо! Младенческий! То есть на редкость младенческий! «Я лежу сегодня — невралгия — Боль как тихая виолончель — Ваших слов касания благие — И стихи, крылатый взмах качель — Убаюкивают боль. Скитальцы, — Мы живем для трепета тоски…» — Да! Вот именно для трепета тоски! (И вдруг, от слога к слогу все более и более омрачневая и на последнем, как туча):