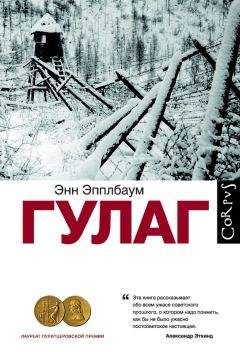Сочувствие арестантам — давняя русская традиция. Достоевский писал о приносимом в острог на Рождество обильном подаянии от горожан «в виде калачей, хлеба, ватрушек, пряжеников, шанег, блинов и прочих сдобных печений».[479] Но в 40-е годы XX века подобное случалось редко. Во многих местах, в частности в печально знаменитом Магадане, заключенные на улицах были настолько обычным зрелищем, что на них не обращали внимания.
Пешком или на грузовике, этапируемые в конце концов прибывали на железнодорожную станцию. Иногда это был обычный вокзал, иногда особая станция — «участок земли, окруженный колючей проволокой», по воспоминаниям Леонида Финкелыптейна. Он также рассказывал, что погрузке предшествовала особая процедура:
«Зэки стоят огромной колонной, их считают и пересчитывают. Поезд уже подан. <…> Перед погрузкой звучит приказ: „На колени!“, потому что это ответственный момент — кто-то может броситься бежать. И вот всех ставят на колени, и без команды лучше не вставать, потому что они только рады будут выстрелить. Пересчитывают, загоняют в вагоны и запирают. Сразу поезд никогда не отправляется — бывает, стоит несколько часов. Потом вдруг: „Тронулись!“ — и мы едем».
Снаружи арестантские вагоны часто имели вполне обычный вид, только были снабжены средствами против побега. Эдуард Бука, арестованный в Польше, обследовал свой вагон внимательным взглядом человека, надеявшегося сбежать. Он вспоминал, что «каждый вагон был опоясан несколькими кусками колючей проволоки, снаружи были оборудованы деревянные площадки для конвоя, в верхней и нижней части вагона зажигались электрические фонари, маленькие окошки были забраны массивными решетками».[480] Финкелыптейн вспоминал, что «каждое утро раздавался стук. У конвоя были деревянные молотки, и они постоянно простукивали вагоны — убеждались, что никто не пытался проделать отверстие и сбежать».
Крайне редко в отношении особо важных заключенных принимались специальные меры. Анна Ларина, жена Николая Бухарина, ехала не с другими арестантами, а в купе конвоя. Но в подавляющем большинстве случаев зэки ехали все скопом в вагоне одного из двух типов. Вагон первого типа назывался столыпинским («столыпинкой»). Это были обычные вагоны, переоборудованные для заключенных, и могли составлять огромный арестантский эшелон или прицепляться по одному или по два к другим поездам. Один бывший «пассажир» описывает их так: «„Столыпинка“ напоминает обычный русский вагон третьего класса, только там очень много решеток и стальных прутьев. Окна, конечно же, зарешечены. Купе разделены между собой стальной сеткой и напоминают клетки, от коридора их отделяет длинная решетчатая перегородка. Это позволяет конвою постоянно наблюдать за всеми заключенными».[481]
В столыпинских вагонах было очень тесно: «На двух самых верхних нарах лежали валетом по два человека. На средних, превращенных в сплошные нары, — семь головой к двери и один у них в ногах, поперек. Под двумя нижними скамейками — по одному, а на них и на вещах в проходе сидели еще четырнадцать зэков. Ночью внизу все как-то сваливались вповалку».[482]
Но было и другое неудобство, едва ли не более существенное. В «столыпинках» конвоиры могли постоянно видеть заключенных: они смотрели, что арестанты едят, слушали их разговоры, решали, когда и куда они пойдут на «оправку». Почти каждый мемуарист, описывающий этапы, упоминает о мучениях, связанных с отправлением естественных нужд. Раз в день, иногда два (а иногда ни разу) конвоиры выводили заключенных в уборную; или же поезд останавливался и людям разрешали выйти. «Самое худшее происходит, когда после долгих препирательств с конвоем нам позволяют выйти из вагонов и каждый или каждая ищет под вагоном место, чтобы облегчиться под множеством взглядов со всех сторон».[483]
Совсем плохо приходилось тем, кто страдал желудочно-кишечными заболеваниями: «Заключенные, у которых не было сил удержаться, с хныканьем пачкали свою одежду, а часто и одежду соседей. И даже содружество, рождаемое общей бедой, не могло помешать иным ненавидеть этих несчастных».[484]
Поэтому некоторые зэки предпочитали вагоны другого типа — товарные, или «телячьи». Они не всегда были переоборудованы для перевозки людей; иногда посреди вагона стояла небольшая печка, для спанья сооружались нары. Более примитивные, чем «столыпинки», товарные вагоны не разделялись на секции, и в них было больше пространства. Кроме того, там была «уборная» (дыра в полу), которой можно было пользоваться без особого разрешения конвоя.
Однако путешествие в таких вагонах было сопряжено со своими особыми неприятностями. Иногда, к примеру, дыры в полу засорялись. В поезде, где ехал Бука, дыра замерзла. «Что нам было делать?
Мы мочились в щель между дверью и полом и испражнялись в тряпочки, из которых потом делали аккуратные свертки, рассчитывая, что когда-нибудь поезд остановят и откроют двери, чтобы мы могли их выбросить».[485] В поездах, где ехали ссыльные (мужчины, женщины и дети в одном вагоне), эти дыры (или параши, выливавшиеся в окно) создавали другую трудность. А. Знаменская, девочкой в начале 30-х сосланная как дочь «кулака», пишет, что люди очень страдали «из-за врожденной стыдливости». Даже она «делала это только тогда, когда мама загораживала меня своей широкой юбкой».[486]
Но главными мучениями были не уборные и не стыд, а голод и особенно жажда. Иногда (это зависело от маршрута и типа поезда) заключенных кормили в дороге горячей пищей, иногда нет. В сухой паек на этапах входил хлеб, который выдавали либо дневными 300-граммовыми порциями, либо сразу помногу (скажем, по 2 кг). Помимо хлеба, заключенных кормили селедкой, от которой очень хотелось пить. Воды, однако, редко давали больше, чем по кружке в день, даже летом. Это вошло в систему, и о страшной жажде во время этапов вспоминают многие. «Однажды мы около трех суток почти не получали воды и, встречая Новый, 1939 год где-то около Байкала, должны были лизать черные закоптелые сосульки, наросшие на стенах вагона от наших же собственных испарений», — писал Н. Заболоцкий.[487] За двадцать восемь дней поездки, вспоминает Л. Бершадская, воду давали три раза. Заключенные то и дело кричали: «Конвой, — уберите труп!».[488]
Пресловутая кружка в день тоже не спасала от жажды. Евгения Гинзбург пишет о мучительном решении, которое надо было принять: «Некоторые предпочитают выпить всю дневную порцию с утра. Те же, кто бережет воду, чтобы время от времени пропускать по глоточку до самого вечера, — не знают ни минуты покоя. Все смотрят на кружку, дрожат за нее».[489] Еще хорошо, что у них были кружки: одна бывшая заключенная на всю жизнь запомнила трагический момент, когда у нее украли чайник, в котором удобно было держать дневной запас воды.
Поезд, в котором ехала Нина Гаген-Торн, три дня стоял в Новосибирске посреди лета. Городская тюрьма была переполнена и отказалась принять проезжающий контингент. «Был июль. Жара. Крыша столыпинского вагона накалилась, и мы лежали на нарах, как пирожки в печке». Вагон решил начать голодовку, хотя конвой угрожал новым сроком. «Не желаем заболеть дизентерией! — кричали женщины. — Четвертый день лежим в говне!» В конце концов им принесли воды попить и умыться.
Поезд, в котором ехала одна польская заключенная, тоже остановился, но в дождливую погоду. Естественно, арестанты попытались собрать воду, стекающую с крыши. Но «когда мы выставили кружки между прутьев зарешеченных окон, конвоир, сидевший на крыше, закричал, что это запрещено и что он будет стрелять».[490]
Зимой было не лучше. Другая польская ссыльная вспоминала, что, пока ее везли поездом на восток, она получала только «замерзший хлеб и лед вместо воды». Некоторые категории ссыльных и зимой, и летом испытывали свои особые мучения. Когда один поезд, который вез людей в ссылку, остановился на обычной станции (такое происходило редко), люди бросились покупать у местных жителей съестное. «Евреи кинулись за яйцами, — вспоминал один поляк. — Они скорее голодали бы, чем стали есть трефное».[491]
Сильнее всего страдали дети и старики. Барбару Армонас, вышедшую замуж за американца, вывезли в составе большой группы литовцев — мужчин, женщин и детей. Среди них была женщина, родившая четыре часа назад, и парализованная старуха восьмидесяти трех лет, которую невозможно было держать в чистоте, — «очень скоро от нее пошел дурной запах и повсюду на ее коже появились открытые раны». Ехало три младенца: «У родителей были огромные трудности с пеленками, потому что регулярно их стирать было невозможно. Иной раз, когда поезд останавливался после дождя, матери кидались наружу стирать их в канавах. У канав порой возникали драки: кто-то хотел мыть в них посуду, кто-то — умываться, а кто-то — стирать грязные пеленки. <…> Родители всеми силами старались держать младенцев в чистоте. Использованные пеленки сушились и вытряхивались. На новые пеленки рвали простыни и рубахи, мужчины иногда обматывали мокрые пеленки себе вокруг талии, чтобы сохли быстрее».