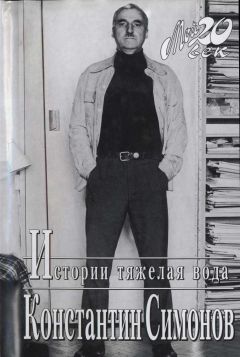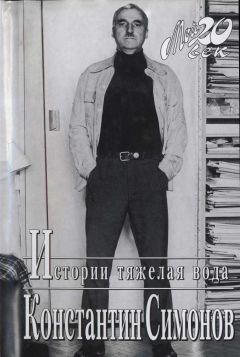Как потом выяснилось, после окончания съемок того или иного фильма на студии Чаплина часть декораций так и остается в неприкосновенности до следующей картины, потому что потом их, не разрушая, заново перестраивают, приспосабливают. А некоторые куски декораций из каждой картины Чаплин оставлял намеренно, для памяти, как своеобразный музей. Мы бродили между декорациями, а в это время в центре студийного дворика человек сорок постановщиков неторопливо и почти бесшумно строили большой новый комплекс декораций: несколько небольших интерьеров, какой‑то домик, еще один домик, банковский подъезд, уголок сада, кусок какого‑то зала, который мы потом узнали в фильме «Комедия убийств» как зал суда, и, наконец, самую большую из декораций — тюремный двор.
Мы бродили уже минут тридцать или сорок, как вдруг откуда- то из‑за угла нам навстречу выбежал живой Чаплин. Я употребил слово «живой», потому что, хотя и готовился встретиться с Чаплином, мне все равно в первую секунду было абсолютно странно вдруг увидеть Чаплина. Выбежал живой Чаплин, улыбающийся, очень любезный, очень маленький, совершенно седой и очень красивый. Тонкий, изящный, узкий, очень милый, с вежливо‑застенчивой улыбкой на лице. Это была улыбка, которой он улыбался в фильмах, улыбка, которой он улыбался в гриме, и в то же время эта улыбка была его собственной, человеческой улыбкой. А впрочем, это было уже и невозможно разобрать, какая улыбка была его собственной: та, из фильмов, или эта, которой он улыбался сейчас, — робкая, застенчивая, именно застенчивая улыбка, которая из‑за того, что на лице его не было грима, казалась совершенно естественной, в ней не было ничего резкого, ничего подчеркнутого.
На нем была какая‑то старенькая рубашечка в полоску или в клеточку, уже не помню, с просекшимся воротничком. А поверх рубашки — джемперок, застегивающийся на пуговки, тоже старенький, и серые шерстяные штаны с латками, обветшалые и протертые. Видимо, это был костюм, в котором он привык репетировать, и мне, когда я увидел на нем этот костюм, показалось, что он репетирует в нем, наверное, уже не первую и не вторую картину.
Он поздоровался и попросил у нас извинения, что заставил нас так долго ждать и что все так вышло.
— Я совершенно негодный, отвратительный, неточный человек, — сказал он. — И вообще со мной совершенно невозможно иметь дело и не нужно иметь дело. Мне кажется, уже никто и не желает иметь со мной дело. И, очевидно, правильно поступает.
Все это было сказано с улыбкой.
— Надолго ли вы приехали в Голливуд?
Я ответил, что недели на две.
Все, что говорил Чаплин, он говорил быстро, на ходу, и при этом мы все время как‑то бесцельно, как мне показалось, передвигались, вернее, Чаплин быстро передвигался, а мы поспевали за ним.
— Я сейчас репетирую последние дни, — говорил он. — Я вообще всегда репетирую до самой последней минуты. Но при этом я все еще не подобрал всех актеров, которые мне нужны. И сейчас опять пробую по нескольку разных актеров на несколько ролей. Никак не могу найти сыщика.
Он вдруг спохватился:
— Но вы же не знаете, в чем дело! Вы же не представляете, что будет у меня в картине.
Я ответил, что я кое‑что читал об этом, что в газетах писали, что в его фильме будет рассказано что‑то вроде истории Синей Бороды.
— Да, да, — сказал он. — Но это будет безумно смешно. Вы даже не представляете себе, как это будет смешно.
Он на несколько секунд замолчал, и по выражению его лица мне показалось, что он сейчас вспоминает какие‑то ужасно смешные вещи из своей будущей картины и, вспоминая их, забавляется своими воспоминаниями.
— Но мы сначала пойдем посмотрим декорации, — сказал он. — Вот этот домик, где он будет обольщать свою четвертую жену. Это будет безумно смешная сцена. В сущности, в душе он ребенок. И очень застенчивый человек, и вовсе не любит обольщать женщин. Он совершенно не любит этим заниматься. И при этом он еще очень, очень вежливый…
И Чаплин каким‑то неуловимым жестом и короткой смешной гримасой показал, какой вежливый его герой.
— Он очень вежливый. А она очень шумная женщина. Очень большая, очень немолодая и очень шумная женщина. Неприятная женщина. А ему нужно ее обольстить. А потом убить. Понимаете? Но он очень не любит все это делать. Он прекрасный семьянин и очень застенчивый человек. Ему так неудобно обольщать эту женщину, и он так вокруг нее прыгает при этом, и у него толком ничего не получается… Это будет безумно смешно!
Он обернулся на полуслове, заметив какого‑то шедшего к нему человека. Человек в руках нес несколько вещей, которые в такой комбинации можно увидеть только на киностудии: бутылку с наклейкой, длинный гвоздь и кандалы.
— Сейчас, минуточку, — сказал Чаплин и подошел к своему сотруднику. — Очень хорошо. Бутылка, гвоздь и кандалы.
Он взял у него из рук кандалы и стал примерять на свою руку.
— Да. Кандалы хорошие. Эти годятся.
Он повернулся к нам и стал объяснять:
— Это будет нужно для тюрьмы. Его потом посадят в тюрьму. Вот с этой сценой в тюрьме я и имел самые большие неприятности с цензурой. Там есть такая сцена: когда его сажают в тюрьму, то к нему приходит священник и говорит традиционную фразу, которую они говорят, приходя к заключенным: «Чем я могу вам помочь?» Вернее, не говорит, а собирается сказать. А мой Верду, как только священник входит к нему, сам первый говорит священнику: «Чем я могу вам помочь?» И вот из‑за этой фразы у меня было два месяца задержки, потому что наша цензура нравов, в которой главную роль играют католики, непременно хотела это место выбросить. Но я запротестовал и сказал, что без этого места я вообще ничего не буду снимать, у меня в фильме обязательно будет это место… Пойдемте дальше, посмотрим декорации. Сейчас я вам покажу тюремный двор.
Мы подошли к декорации тюремного двора, и Чаплин воскликнул:
— Ах, четвертый день я опаздываю!
Мы сначала не поняли, почему он заговорил об опоздании, но он, взглянув на часы, объяснил:
— Вот видите, я опять не могу ничего как следует проверить. Это будет в самой последней сцене. Верду пойдет вот отсюда, и, когда он пойдет, тень должна разрезать этот тюремный двор ровно пополам. Он пойдет вот отсюда, здесь будет яркий солнечный свет, а потом, как раз посередине двора, он из этого солнечного света перейдет в полосу тени, в почти полную темноту. И уже в этой темноте уйдет в ворота. Этим кончится картина. И я хочу проверить, где точно лежит эта тень, правильно ли поставлены декорации по отношению к этой тени. И вот четвертый день не могу сюда попасть, когда тень должна лежать так, как мне это нужно. Каждый раз забываю. И вот сегодня опять забыл!
Он прошел с нами мимо всех декораций, в нескольких местах останавливался и говорил с Постановщиками, потом присел вместе с нами на доски и снова стал рассказывать куски будущего фильма, причем сам страшно веселился. Он рассказывал о том, как в Марселе у его героя появилась женщина, безумно глупая и безумно шумливая. Он уже женился на ней, но никак, никоим образом не может выкачать из нее деньги. Раньше она была женщиной легкого поведения, но потом вдруг выиграла большие деньги в лотерею. У нее сто тысяч франков, которые Верду ужасно хочет вытянуть у нее, а она раздаривает эти деньги всем кому угодно, кроме него. Она его очень любит, но именно ему денег не желает давать. И он ужасно мучается этим.
— Это будет безумно смешно, — повторил Чаплин.
После этого он продолжал рассказывать другие кусочки фильма, смеясь и в заключение каждый раз повторяя, что это будет очень смешно.
Наконец он зашел в маленький домик и вернулся оттуда с синей папкой под мышкой.
— Сейчас я вам кое‑что почитаю.
Снова усевшись на доски, он стал читать нам вслух кусочки сценария. Страничку из одного места, потом страничку из другого, потом страничку из третьего. Читая, он при этом сам очень веселился, смеялся, а иногда и заливался хохотом, причем трудность моего положения заключалась в том, что мне приходилось смеяться по два раза: сначала я смеялся просто потому, что глядел на смеющегося Чаплина, хотя и не понимал того текста, который он читал по — английски. Потом Котэн переводил мне этот текст, и я снова еще раз смеялся уже задним числом, сопоставляя этот смешной текст с тем, как смешно читал его Чаплин. Постепенно я все больше и больше чувствовал характер героя фильма, человека, которого изображал нам Чаплин.
Читая кусочки сценария, он необычайно точно, одновременно и печально, и уморительно, передавал застенчивость этого человека, его внешность, его манеры.
— Он седой и немолодой, как я, — объяснял Чаплин. — С такими же усиками. Очень приличный. Очень застенчивый. Он очень не любит соблазнять женщин, но ему все время приходится это делать. И ему очень неловко перед ними. Он их убивает. Но ему все это очень, очень не нравится.