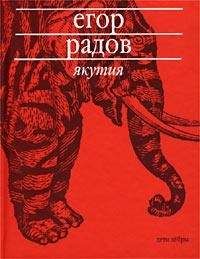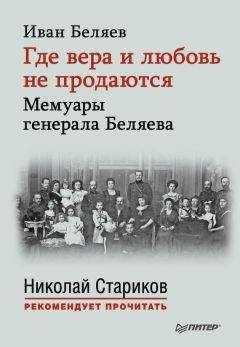Из Петропавловского раненых пепеляевцев увезли в Якутск, в госпиталь, где лежали привезенные из Амги и Сасыл-Сысы чоновцы и красноармейцы. В качестве сестер милосердия были мобилизованы курсантки медицинской школы. Автор письма в редакцию «Автономной Якутии» упрекал этих девушек в стремлении ухаживать за офицерами, «такими славными, интеллигентными, корректными», и желании уклониться от дежурства в палатах у красноармейцев, «ведь они так грубы, грязны, невоспитанны». Даже после разгрома Пепеляева его пятая колонна не отказалась от планов закрутить роман с каким-нибудь подходящим по возрасту врагом советской власти, но, радовала газета своих читателей, «приехавший из Москвы “Крокодил” (т. е. корреспондент столичного сатирического журнала. – Л. Ю.) точит зубы на этих курсанток».
Через два года Строд найдет среди них жену, но сейчас ему не до поисков подруги, его несет волной обрушившейся на него славы. Он награжден вторым орденом Красного Знамени, а от властей автономии получил очень похожий по форме почетный нагрудный знак ЦИК ЯАССР с таким же красно-эмалевым флагом. Привинченный рядом с двумя орденами, на фотографиях он кажется третьим.
За эти месяцы Строд сфотографировался множество раз. Иногда он запечатлен вдвоем с Курашовым, тоже теперь «краснознаменцем», чаще – с военным и партийным начальством, якутскими интеллигентами, амнистированными повстанцами, красноармейцами, курсантами или участниками какого-нибудь собрания, съезда, пленума, удостоенными чести сняться вместе с героем Сасыл-Сысы. На групповых снимках Строд неизменно находится в первом ряду и, за редкими исключениями, в середине. Персоны, стоявшие несравненно выше его на иерархической лестнице, оттеснены на фланги. При этом в центре кадра оказываются новенькие, блестящие, с модными узкими голенищами, высокие и, чувствуется, мягкие сапоги, пошитые, надо думать, из того куска кожи, который Байкалов пообещал Строду на заседании в Народном театре. Наградная шашка с серебряной рукоятью тоже присутствует на многих его фотографиях.
Байкалов, зная вкус подлинной власти, охотно предоставлял ему забавляться этими игрушками, но отношения между ними быстро стали ухудшаться. Строд не без оснований считал, что Байкалов его предал, не сделав даже попытки помочь осажденным, но не хотел высказывать эту обиду публично, дабы не сводить дело к личным счетам. Он начал критиковать Байкалова сначала за ошибки при штурме Амги, потом – за всю едва не проигранную кампанию, а попутно – за преувеличение им собственной роли в борьбе с колчаковщиной в Сибири и принижение Каландаришвили.
То, что оба были латышами, их не сблизило, напротив – усилило ревность и соперничество. Байкалов, говоривший по-русски с акцентом, но нисколько этого не стеснявшийся, не скрывал своего происхождения, тогда как Строд старался о нем не вспоминать. Перебежчик Бернгард Наха, на пару с Вычужаниным предупредивший Карпеля о приближении Пепеляева к Нелькану, тоже был латышом, и Байкалов добился от него полной откровенности, заговорив с ним на родном языке. Он сам пишет об этом, хвастаясь своей хитростью, а Строд, подробно рассказывая о Нахе в своей книге, умолчал о его национальности – потому, вероятно, что иначе пришлось бы сказать это и о себе. Объявить войну Байкалову для него было тем проще, что он выступал против соплеменника. Тем самым, как ему могло казаться, лишний раз подтверждалась объективность его критики.
Похоже, кто-то из врагов Байкалова настоятельно советовал Строду вступить в РКП (б), дабы его инвективы против командующего обрели больший вес. Кропоткин, «хлебовольцы» – все это осталось далеко в прошлом, Строд согласился и в полной уверенности, что отказа быть не может, написал заявление с просьбой о приеме. Вот тут-то Байкалов и нанес ответный удар.
Как непосредственный начальник кандидата он обязан был его аттестовать и написал служебную характеристику не то чтобы совсем несправедливую, но такую, каких в подобных случаях не пишут, если желают человеку добра. В ней Байкалов умело перемешал достоинства и недостатки Строда, чтобы обличения не выглядели тенденциозными, а комплименты меркли в их тени. С одной стороны, Строд – «человек порыва», «идеалист-романтик», у него «богатый природный ум», ему присущи «решительность, сила воли и безумная храбрость», с другой – он «партизан до мозга костей» и, что еще хуже, «анархист». Дальше – больше: «Не может ужиться с вышестоящими начальниками благодаря болезненному самолюбию и самомнению. Пристрастен к спирту, скоро пьянеет, склонен к буйству и дебошам». Здесь, правда, милостиво добавлено: «Не алкоголик».
А в конце – безжалостный вывод: «Занимаемой должности не соответствует».
Впоследствии Байкалов будет отзываться о Строде как о «бунтаре с анархией, путаницей и сумасбродством в голове» и отдельно отметит в нем еще один недостаток, для члена партии особенно предосудительный: «Я никогда не видел, чтобы он читал передовицы газет».
Впрочем, и того, что было написано сейчас, оказалось более чем достаточно.
Характеристика датирована 2 июня 1923 года. Осада Сасыл-Сысы снята три месяца назад. За это время Строд превратился в мифического персонажа и, как во всех историях о победителях чудовищ, был обречен на гонения после триумфа. Ревность правителя, который сам побоялся выйти на битву с драконом, зависть друзей, неблагодарность спасенных – вот участь героя.
В партию его не приняли, а заодно отстранили от командования Сводным отрядом. Ликвидация остатков Сибирской дружины должна была пройти без участия войск Байкалова, и Строду ясно дали понять, что в Якутии ему больше нечего делать. В июне он чуть не с первым пароходом, идущим вверх по Лене, уезжает в Иркутск.
3
13 мая отряд Вишневского без отделившегося днем раньше Артемьева подошел к Джугджуру. Все вокруг было занесено глубоким снегом. Чтобы проложить путь через хребет, нагрузили самые тяжелые и прочные нарты срубленными деревьями, и дюжина «полудиких оленей» поволокла эту «трамбовку» на вершину. Вслед за ними поднялись на перевал и спустились к реке Улье, впадающей в море на сто верст южнее Охотска. До устья оставалось примерно столько же, но под весенним солнцем снег начинал таять, идти можно было только рано утром, когда начинало светать, а ночной морозец еще держался, иначе приходилось часами брести в ледяной воде. Утренники делались все короче, сокращались и суточные переходы – двенадцать верст, десять, семь. Накануне Троицына дня Вишневский сорвал на берегу первый подснежник и вложил его в дневник.
Записи в нем становятся все обстоятельнее по двум причинам: во-первых, у Вишневского много свободного времени, потому что после полудня двигаться нельзя, все тает, и до следующего утра, пока сушится одежда, делать нечего; во-вторых, наступила весна. Мороз притуплял впечатления, зато сейчас они обострились и вместе с воспоминаниями просились на бумагу. О чем-то подобном повествовал Марко Поло, если аллегорически толковать его рассказ о чудесах северных стран – там, пишет он, слово, зимой с облачком пара выходящее изо рта, замерзает на лету, а весной оттаивает и звучит в воздухе.
Когда дошли до впадающей в Улью реки Давыхты, увидели, что по ней вверх корнями плывут подмытые паводком и уносимые бешеным течением деревья, огромные льдины. Ниже ее устья Улья вскрылась, проще было сплавиться к морю на плоту, чем тащиться с нартами через горы. Вишневский отпустил проводников с оленями, оставив одного оленя на мясо, остальные члены экспедиции за три дня построили плот, погрузили на него имущество и утром 1 июня, оттолкнувшись от берега, «понеслись со скоростью 7–8 верст в час».
Поначалу плавание шло спокойно, приключения начались после обеда: «Наш корабль быстрым течением кинуло на большую ледяную глыбу. Один конец плота поднялся на лед, другой стал опускаться в воду. Мы очутились в воде, но быстро перебрались на лед, куда начали перетаскивать свои вещи. С каждой минутой прибывали все новые и новые льдины и загромождали плот. Часть вещей уплыла сразу, как, например, мешок с мясом (последний запас), чья-то постель… В это время под сильным напором воды льдина, на которой мы находились, дала трещину, кусок льдины оторвался, плот стал поворачиваться по течению и выравниваться. Мы едва вскочили на него и поплыли дальше… Не прошло и пяти минут, как повторилась та же картина: мы опять на глыбе льда, а плот наш загромождается льдом. Дело к вечеру, мы промокли и продрогли. С моря дует холодный, со снегом, ветер. Кругом бушует река, несутся глыбы льда. Помощи ждать неоткуда. В довершение всего мимо нас проносятся наши вещи. Вот плывет мой сверток – постель, доха и шинель, завернутые в дождевой брезентовый плащ. Все узнают свои вещи и ранцы. Плывет наша кастрюля, величаво качаясь в волнах, свечи плывут врассыпную… Через ½ часа удалось оттолкнуть плот от льдины – нам помогла большая волна, очистившая его от нагроможденных глыб, мы понеслись дальше и наконец причалили к берегу».