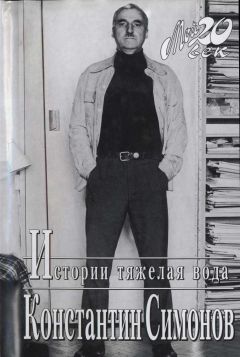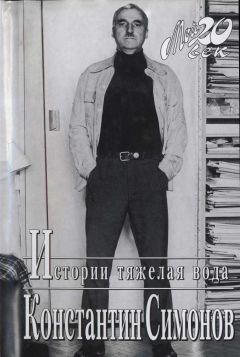— Не ожидал от тебя такой подлости, — говорит Горбатов при встрече. Говорит так сердито, что даже ноздри у него подрагивают.
— Чего ты от меня не ожидал?
— Того, что ты напечатаешь два куска, пока я напечатаю один. Договорились же, что будем писать одновременно.
— Договорились, что начнем писать одновременно, — уточняю я.
— Ну конечно! Тебе только — начать да кончить! Тебе жаль времени даже на то, чтобы хоть немножко притормозить и вспомнить, что ты писатель. Я встаю, думаю, пью чай, снова думаю, раскладываю пасьянс, еще раз думаю и только после этого пишу. А ты вообще никакой не писатель, а обормот! Едва продрав глаза, сразу же садишься и строчишь свои четырехколонники, как ни странно, вполне удовлетворительные. Нет, так дальше у нас с тобой дело не пойдет. Если опять окажемся где‑то вместе, сразу же договоримся, что ты начинаешь писать на неделю позже меня!
Горбатов смеется так, что у него прыгают очки, и рассказывает мне в лицах, как сегодня утром редактор «Правды» Петр Николаевич Поспелов, увидев в «Красной звезде» мой второй четырехколонник, свирепо укорял его в неоперативности.
Токио. От международного корреспондентского клуба, куда мы заезжали с Горбатовым за какой‑то нужной нам информацией, до нашего местожительства в кое‑как отремонтированном нами домике бывшего торгпредства километров двенадцать через развалины Токио. Мы едем на своем «виллисе» и спорим с Горбатовым. Я упрекаю его за то, что одна из наших трех машин, старый японский «фордик», так и не вышла из гаража по его вине: он не достал бензина, — а по распределению наших обязанностей — бензин должен доставать он.
— Я вчера поздно вернулся и сегодня проспал, — сердито бурчал Горбатов.
— Не проспал, а провалялся, — уточняю я.
— Да, я лежал и думал. Понимаешь, думал, то есть занимался тем, о чем ты не имеешь ни малейшего представления.
— Вот и надумал бы, где бы достать бензину, — гну я свое. — Когда распределяли обязанности, ты же сам предложил, что будешь заниматься машинами и горючим.
— Я считал, что это легче всего, потому и взялся, а ты знал, как это трудно, и все‑таки всучил мне, хотя тебе прекрасно известно, как я не люблю работать!
Я говорю Горбатову, чтобы он не валял дурака, он же сам предложил, чтобы я стал руководителем нашей группы.
— Да, предложил, потому что еще не раскусил тебя, но теперь я организую общественность, и мы тебя снимем в ближайшую же неделю, не позже!
— Хорошо, но, пока я еще у власти, тебе придется добывать бензин на все три наши машины.
— И не подумаю! — говорит Горбатов. — Сколько достану, столько и достану. Если достану на две, и то поклонитесь мне в ножки!
— Если достанешь на две, — озлившись, говорю я, — то мы, все остальные, будем ездить на этих двух, а ты на той — третьей, на которую не достанешь.
Мы начали спорить, едва отъехав от корреспондентского клуба, и теперь, к разгару спора, доехали до середины дороги. До нашего дома еще километров шесть.
— Останови машину, — вдруг говорит Горбатов.
— Зачем?
— Останови машину.
«Виллис» останавливается, и Горбатов, легко перебросив через борт свое грузное, но сильное тело, оказывается на мостовой.
— Что это значит?
— Это значит, что я не желаю дальше ехать в одной машине с таким отвратительным буквоедом и вообще гнусным типом, как ты.
— Да ладно тебе, садись, — пробую я выпустить из него пар.
— Не поеду.
— Садись.
— Не поеду. — Он рывком надвигает на лоб шляпу, закладывает руки в карманы и быстро идет в сторону от машины своими мелкими, семенящими, чуть — чуть смешными шажками.
— Смотри не заблудись.
— Не твое дело.
Он идет. Я уезжаю.
Приехав домой, я сразу же посылаю «виллис» с шофером навстречу Горбатову, авось, не пожелав ехать со мной, он соблаговолит поехать без меня. Но «виллис» через час возвращается, так и не обнаружив Горбатова.
Мы — Агапов, Кудреватых, я и поехавшая в Японию вместе с нами моя стенографистка Муза Николаевна, добрейшая душа во всей нашей группе, — садимся, расстроенные, за стол и, уже сев, решаем не притрагиваться к еде, пока не появится Горбатов.
— Он так не любит ходить пешком, говорит Кудреватых, — может быть, чтобы смягчить его душу, поставим на этот раз бутылку водки из нашего НЗ?
Я не возражаю. Мне, наверное, больше всех хочется смягчить душу оставленного мною посреди Токио Горбатова, и, достав хранящиеся у меня в кармане ключи от сейфа, я вынимаю оттуда бутылку водки, приношу и ставлю на стол.
Сидим еще тягостных полчаса.
Вдруг с треском открывается наружная дверь, и еще из коридора доносится веселый, громкий голос Горбатова:
— Ну конечно, наверное, всё уже сожрали, пользуясь моим отсутствием. Оставили мне одни объедки.
Он входит в комнату веселый, улыбающийся, продрогший и порозовевший от непривычной для него долгой ходьбы.
— Имей в виду, — говорит он, обращаясь ко мне, — что я по дороге раздумал снимать тебя с руководства, потому что лучший способ расплаты за то, что ты оставил меня, так ненавидящего ходить пешком, одного посредине Токио, это заставить тебя и дальше руководить нами. Ты еще нахлебаешься горя с каждым из нас, особенно со мной. Даю тебе честное пионерское!
Снова Токио. Горбатов, в начале нашей поездки добродушно насмешливый, после нескольких месяцев пребывания в Японии заметно изменился. Все чаще и чаще в те вечера, когда мы после работы собираемся в своем жидком домике, изрядно промерзшем за эту небывало холодную токийскую зиму, Горбатов появляется или чем‑то раздраженный, или угрюмый до нелюдимости. Он бегает своими быстрыми шажками из угла в угол по комнате, сердито пожимая плечами, и ни с кем из нас не заговаривает, видимо, предпочитая этому молчаливый разговор с самим собою.
Именно так, особенно долго, он бегает по комнате в тот вечер, о котором я сейчас вспоминаю, и вдруг, остановившись напротив меня, спрашивает:
— Ну, что смотришь?
Пожав плечами, я отвечаю, что видеть его в таком настроении никому из нас не доставляет удовольствия.
— Удовольствие? — Он морщится от этого не понравившегося ему слова и, еще с минуту побегав взад — вперед, резко останавливается напротив меня и, ткнув себя пальцем в грудь, говорит с усмешкой, которая нисколько не смягчает серьезности сказанного: — Не в состоянии дальше пребывать в условиях капитализма! Понятно тебе?
Я молчу.
— Сегодня в шахту спускался. Ох! — Он мотает головой с таким страдальческим выражением лица, что к его словам нечего прибавлять. — Был бы я японским писателем, я бы написал им такой роман о японском рабочем классе… К черту! — Подняв кулак, он потрясает им в воздухе и наконец садится на стул и говорит тихо и горько, словно удивляясь чьей‑то непонятливости или недогадливости: — Интересно, когда вообще кончится вся эта нелепость, которая называется капитализмом?
Москва. С Александром Александровичем Фадеевым у Горбатова отношения товарищеские, но не столь простые, какими могут показаться на первый взгляд. Корни этого уходят в двадцатые годы. Совсем еще юный тогда, Горбатов был одним из секретарей ВАППа. И хотя, разочаровавшись в прелестях руководящей деятельности, он поспешил расстаться с ней, однако Фадеев, вспоминая то время, при случае замечает, что Горбатов уже с пеленок был леваком. Обычно эти иронические замечания совпадают с каким- нибудь возникающим между ними спором.
Расставшись с работой в ВАППе, Горбатов вошел в сложившуюся вокруг журнала «Октябрь» литературную группу, во главе которой стояли Серафимович и Панферов. В силу групповых пристрастий и отталкиваний той поры Панферов какое‑то время был ближе Горбатову, чем Фадеев. И об этом они, по — моему, оба помнят — и Горбатов, и Фадеев, который вообще все помнит.
В дальнейшем Горбатова захватывает журналистика, «правдистская» работа, дальние и трудные поездки, потом начинается война, и литературные разногласия двадцатых — начала тридцатых годов вроде бы уходят в прошлое.
Однако в сорок шестом году, когда в новом составе секретариата правления Союза писателей Фадеев по предложению Сталина становится генеральным секретарем, а Горбатов, тоже по предложению Сталина, секретарем партийной группы правления, Фадееву, насколько я понимаю, это не очень нравится. Для него как для руководителя Союза писателей казалось бы естественным одновременно руководить и работой партгруппы. Однако секретарь партгруппы не он, а Горбатов, и в этом есть непривычный для Фадеева оттенок комиссарства. Конфликтов на этой почве внешне не возникает, но некая сложность их взаимного положения, быть может нарочито созданная, незримо присутствует в их отношениях.
Однажды в первый год нашей работы в Союзе Горбатов в разговоре со мной вдруг горько срывается: