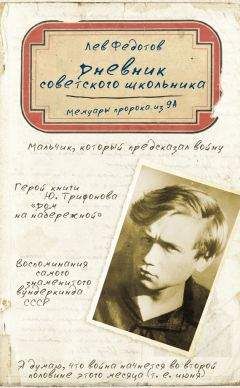В значительной части образцов его литературной и научно-изыскательской деятельности, включая и сам дневник, присутствует один общий пространственно-«геодезический» маршрут. Это – погружение под землю. В подземелье наступает развязка сюжета его любимой оперы Дж. Верди «Аида»: здесь, во владениях египетской богини Исиды, обретают вечный покой и соединяются воедино души приговоренного к смерти Радомеса и его возлюбленной Аиды. Интересно, что финал оперы Лева полностью описывал в своем дневнике. В романе «Исчезновение» литературный персонаж, замещающий Леву, совершал бесстрашные одиночные вылазки в подмосковные пещеры, иногда увлекал туда друзей и даже создал конспиративную организацию «Общество по изучению пещер и подземных ходов» (ОИППХ).
Дневник доносит сведения и о том, что он писал роман «Кобольд, или Путешествие в недра земли» (от него уцелел лишь небольшой неоконченный рассказ о геологах, пробирающихся через расставленные басмачами ловушки к месту предстоящих разысканий). Напомним, что именем, фигурирующим в названии романа, в германской средневековой мифологии было принято называть инфернального обитателя подземного мира, яростно охранявшего его сокровища от посягательств людей. Опять-таки из дневника известно, что Лева писал роман «Подземный клад». Именно он и побудил его друзей и одноклассников – М. Коршунова и О. Сальковского пригласить его в путешествие по подземелью, которое начиналось из подвала церкви Николы на Берсеневке. 8 декабря 1939 г. – день этой подземной экспедиции, безусловно, стал важнейшим в Левиной биографии. Ему отводилось большое место в V и VI тетрадях, хотя из-за утери VI тетради описание осталось оборванным.
В ожидании экспедиции он пытался смоделировать свои ощущения:
Я представлял себе мрачные темные ходы, сырые и жуткие, зловещие залы с плесенью по стенам, подземные переходы, колодцы, и это все переполняло мою чашу терпения и воображения. Я не представлял себе, что мне скоро суждено это увидеть наяву, короче говоря, я был в наивысшей точке напряжения. Мне даже трудно описать все мои чувства.
Само прохождение через подземные тоннели на деле оказалось еще более волнующим, чем это представлялось накануне.
Сердце у меня бешено колотилось, в груди давило, и от этой ужасной тесноты выработалось какое-то необъяснимое, странное, неприятное чувство…
Эти жуткие подземелья как бы давили на все мое сознание, и я чувствовал себя сдавленным и стиснутым не только физически, из-за узкого коридора, но и морально…
Не прошли мы и нескольких шагов от дверцы, как коридор под прямым углом повернул вправо и сделался еще уже прежнего. Я нахмурился и сжал кулаки.
Записи дают ясно понять, что подземелье вызывало у него прямую ассоциацию со склепом. Отсюда проистекали и такие специфические физиологические реакции, как удушье, ощущение физической и моральной сдавленности и еще некоторые незнакомые чувства. Сужение последнего пройденного коридора нагнетало эти эмоции, одновременно ставя преграду дальнейшему продвижению в глубь лабиринта. Иными словами, подойдя к кульминационной точке, путешествие в царство теней и намеченная программа обследования застопорились. Это вызвало у Левы сильнейшее волнение. Его выдает заключительная фраза приведенного отрывка. Выражения «сжать кулаки», «стиснуть зубы», «сжать губы», используемые несколько раз в дневниковых рассказах от первого лица, помечают ситуации его сверхвысокого нервного возбуждения, а обозначенная ими моторика сродни бойцовской стойке перед лицом атакующей враждебной силы.
Они встречаются в рассказе о спуске в подземелье: в первый раз, когда, пройдя подвалы со следами человеческой жизнедеятельности в виде старого хлама, ребята открыли проржавевшую дверцу в глубины подземелья – на территорию абсолютного безмолвия и неизвестности, а во второй раз – когда убедились, что дальше хода нет. Складывается впечатление, будто в эти моменты Лева вступал в напряженный поединок с невидимым противником. Для выявления его импульсов сравним описанные ситуации с другим примером идентичной реакции: как-то, возвращаясь от подруги семьи Анюты, он вместе с матерью стал вспоминать ее покойного мужа, Сашу:
– Какой хороший и умный был человек, – проговорила мама. – Всякие балбесы да пьяницы живут, и ничего, а полезные люди умирают…
Я ничего не ответил и только сжал плотнее губы…
Общим во всех эпизодах является не только психофизическое движение отпора, но и объект, на который оно направлено. Это – смерть, которая слепо выбирает жертвы, унося их в невозвратную тьму.
Итак, путешествие в подземные чертоги являлось запланированным соприкосновением с миром Танатоса, который, судя по характеру и накалу испытанных эмоций, одновременно и страшил, и манил его. Следует думать, что этим же странным влечением были продиктованы его виртуальные и реальные опыты проникновения в полость земли. Опять-таки резонно предположить, что первотолчком обращения к данному предмету послужили личные горькие потери: вначале отца, а затем и взрослого друга Саши. В дневнике он обходил данную тему. Косвенно, однако, остроту этих переживаний доносит следующая история: после внезапной смерти завуча 19-й школы Лева предложил его осиротевшему сыну почтить память отца музыкой. Сменяя друг друга за роялем, они играли всю ночь до тех пор, пока поутру в зал не заглянул учитель и, кинув быстрый взгляд на исступленное и измученное лицо своего ученика, не произнес: «Ты совершенно без сил, Федотов. Иди… домой»[14]. Втягивая товарища в изматывающий и вдохновенный музыкальный марафон, Лева знал по себе: так можно вырваться из тисков невыносимой боли и на время перенестись туда, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания.
В такой же экстатический транс он погружался на представлении любимой «Аиды» Верди. Слушая хор пленных и дуэт Амонасро и Аиды на берегу Нила, он, по собственному признанию, «не помнил себя» или начинал «дрожать, как дрожит бедный щенок, попавший под дождь». А после спектакля еще долго не мог вернуться в привычную колею, путаясь в хорошо знакомых предметах и сбиваясь с дороги из комнаты в ванную своей квартиры. Это измененное состояние сознания было сродни экзальтации и восторгу, которыми наполнялись, например, адепты древних дионисийских, орфических и пифагорейских культов по ходу мистериальных действий. Опыт внетелесного путешествия в обитель богов приобщал к сонму бессмертных и позволял проникнуться идеями иммортализма на уровне ощущений[15]. Современные психологи не преминули бы заметить, что чувственная трансценденция – апробированное убежище сознания, охваченного ужасом безвозвратных потерь и собственной экзистенциальной конечности.
Детское потрясение закономерностью исчезновения всего живого стало отправной точкой многих его начал и принципов, и прежде всего построенного режима существования. И в подростковом, и в юношеском возрасте Лев Федотов явно чуждался сна – родного брата Танатоса, и если бы не запрос физиологии, то вообще освободился бы от его власти. Ускоренный темп жизнедеятельности, отмечавшийся всеми мемуаристами, – продукт того же трезвого осознания кратковременности своего, как, впрочем, и любого другого пребывания на земле. Вряд ли случайным является тот факт, что в его дневнике в абсолютном большинстве случаев слова «мужчина», «женщина», «человек», «люди» заменялись одинаковым определением – «смертный» и «смертные». Занятия музыкой, сочинительством, рисованием несут в себе заметный отпечаток сублимации тех же страхов. Характерно, что его тяга к творчеству разгоралась с особой силой на фоне сгущавшихся ощущений близкого обрыва и привычной жизни страны, и своего пути. Так, в частности, произошло и в конце третьей четверти его последнего учебного года, когда даже «патентованные» лодыри взялись за ум и налегли на учебу. Он же, игнорируя вероятность провала экзаменов, вдруг повернул на стезю «вольного» художника – возросшее в этот период внутреннее напряжение настоятельно требовало разрядки.
Впрочем, детская травма от восприятия смерти и ее частичная психическая проработка в творческом процессе еще не заключали в себе ничего из ряда вон выходящего. Личностная неординарность Льва Федотова проявилась в том, что детские страхи не были вытеснены в область бессознательного, а были эксплицированы. Более того, их объект был выведен на уровень сосредоточенного внимания, обследования и… даже воздействия. Об этом свидетельствовала решимость встретиться с последним врагом человечества на его же собственной территории, продемонстрированная в ходе подземной экспедиции конца 1939 г. Детско-подростковые приступы отчаяния и ужаса к тому времени были если и не изжиты, то взяты под контроль. А завершающие дневниковые записи, посвященные трагическим обстоятельствам первого месяца войны, включая смертоносные вражеские налеты, пронизаны абсолютно отстраненным исследовательским подходом. Так, испытав в первый миг сирены, предупреждающей о бомбардировке, прилив «неприятного чувства, которое было для меня чуждо и ново», далее он от него освободился, отчужденно фиксировал чужие реакции на угрозу жизни и даже пытался шутить то с насмерть перепуганной двоюродной сестрой, то людьми, собравшимися в бомбоубежище. Очевидно, что к тому времени он имел определенное представление о способах укрощения той, которая от начала века неумолимо довлела над людским родом.