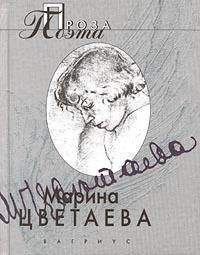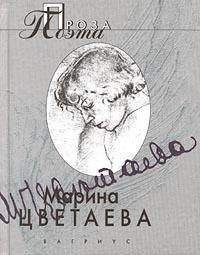— Это что за мухомор такой? — спросил я шедшего с нами журналиста И. Грозного.
Мне никто не ответил, но «Клара Цеткин» (особа блудная и неразборчивая, охотно принимавшая участие во всех заседаниях Ц. К., что буквально означает «целую крепко») уже тарахтела, обращаясь к старику.
— А, премудрый старец Волошин, наше вам пролетарское, сколько лет, сколько зим!
Грозный цыкнул на нес и оттолкнул, — а сам, склонившись над ухом старика, почтительно отрекомендовался:
— Здравствуйте, Максимилиан Максимилианович! Это я, Грозный.
Старик прищурился, сложил руку трубочкой у уха и остановился, держа в другой руке корзинку с… камнями.
Журналист, заметя мое недоумение, раздраженно шепнул:
— Вы не знаете Волошина? Когда‑то гремел на всю Россию, поэт…
— Нет, не слыхал. Что это они морочат мне голову, что ли?
Но старик тем временем продолжал:
— Литературой сейчас не занимаюсь. Не печатают. Говорят, выжил из ума. Рисованием занимаюсь, иногда курортники что- нибудь купят, тем и живу. Да вот камешки собираем.
Вас. Вас. Зевнул с хрустом в челюстях и сказал:
— Поехали! Что с ним разговаривать…»
(Перепечатано из «Последних Новостей». Москвин: «Хождение по ВУЗам».)
Милый Макс, тебе было только пятьдесят семь лет, ты же дан старцем, ты был Александрович, тебя дали Максимилиановичем, ты был чуток как лис — тебя дали глухарем, ты был зорок как рысь — тебя дали слепцом, ты был Макс — тебя дали Кузьмичом, ты — вчитайся внимательно! — ничего не говорил, тебя заставили «продолжать», ты до последнего вздоха давал — тебя заставили «продавать»… Не останови автор руки, ты бы вот — вот, наставив ухо щитком, сказал бы:
— Ась?
И все‑таки ты похож. Величием.
Говорил или не говорил ты приписываемых тебе слов, так ли говорил то, что говорил, или иначе, смеялся ли ты в последний раз над глупортью, вживаясь в роль выжившего из ума старика, или просто отмахивался от назойливых вторженцев («э! да что с ними говорить…»)
— рой вихревых видений: Мельник — Юродивый — Морской Дед — Лир — Нерей — мистификация или самооборона, последняя игра или в последний раз мифотворчество.
Скала. Из‑за скалы — один. На этого одного — все. Меж трех пустынь: морской, земной, небесной — твое последнее перед нами, за нас предстояние, с посохом странника в одной, с уловом радужной игры в другой, с посохом, чтобы нас миновать, с радугой, чтобы нас одарить. И последнее мое о тебе, от тебя, озарение: те сердолики, которые ты так тщательно из груды простых камней, десятилетьями подряд вылавливал, — каждый зная в лицо и каждый любя больше всех, — Макс, разве не то ты, десятилетия подряд, делал с нами, из каждой груды — серой груды простых камней — неизбежно извлекая тот, которому цены нет! И последнее о тебе откровение: лик твоего сердца: сердолик!
Та орава, которая на тебя тогда наскочила, тебе послужила, ибо нашелся в ней один грамотей, который, записав тебя, как мог, неизбежно стал твоим рапсодом.
Седобородый и седогривый как море, с корзиной в руках, в широких штанах, которые так легко могли быть, да и были хламидой — полдень, посох, песок — Макс, это могло быть — тогда, было — всегда, будет — всегда.
Так ты, рукой безвестного бытописца (проходимца)[132] еще до воссоединения своего со стихиями, заживо взят в миф.
1932
Моя встреча с Андреем Белым
Посвящается Владиславу Фелициановичу Ходасевичу
I. Предшествующая легенда
Легкий огнь, над кудрями пляшущий, Дуновение — вдохновения!
— Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, няню, Асю, Андрюшу, Наташу, Машу и Андрея Белого…
— Ну, помолилась за Андрея Белого, теперь за Сашу Черного помолись!
Самое забавное, что нянька и не подозревала о существовании Саши Черного (а существовал ли он уже тогда, как детский поэт? 1916 год), что она его в противовес: в противоцвет Андрею Белому — сама сочинила, по женскому деревенскому добросердечию смягчив полное имя на уменьшительное.
Почему молилась о нем сама трехлетняя Аля? Белый у нас в доме не бывал. Но книгу его «Серебряный голубь» часто называли. Серебряный голубь Андрея Белого. Какой‑то Андрей, у которого есть серебряный голубь, а этот Андрей еще и белый. У кого же может быть серебряный голубь, как не у ангела, и кто же еще, кроме ангела, может называться — Белый? Все Ивановичи, Александровичи, Петровичи, а этот просто — Белый. Белый ангел с серебряным голубем на руках. За него и молилась трехлетняя девочка, помещая его, как самое любимое — или самое важное — на самый последок молитвы. (Об ангелах тоже нужно молиться, особенно когда на земле. Вспомним бедного уэльсовско- го ангела, который в земном бытовом окружении был просто непристоен!)
Но имя Белого прозвучало в нашем доме еще до Алиной молитвы, задолго до самой Али, и совсем не в этом доме, и совсем иначе, ибо произнесено оно было далеко не трехлетним ангелом, а именно: моей теткой, женой моего дяди, историка, профессора Димитрия Владимировича Цветаева, и с далеко не молитвенной интонацией.
Последние времена пришли! — кипела она и пенилась на моего тихонько отсаживавшегося отца. — Вот еще какой‑то Андрей Белый завелся, завтра читает лекцию. Мало им Горького — Максима, Белый — Андрей понадобился! А то еще какой‑то Александр Блок (что за фамилия такая? Из жидов, должно быть!) сочинил «Прекрасную Даму», уж одно название чего стоит, стыда нет! Раньше тоже про дам писали, только не печатали, а в стол прятали, — разве что в приятельской компании. А всего хуже, что из приличной семьи, профессорский сын, Николая Димитриевича Бугаева сын. Почему не Бугаев — Борис, а Белый — Андрей? От отца отрекаться? Видно, уж такого насочинил, что подписать стыдно? Что за Белый такой? Ангел или в нижнем белье сумасшедший на улицу выскочил? — разорялась она, вся трясясь бриллиантами, крючковатым носом и непрестанно моргающими (нервный тик) желтыми глазами.
— Молодость, Елизавета Евграфовна, молодость! — кротко отвечал мой отец. — А о чем лекция?
— О символизме, изволите ли видеть! То‑то символизм какой- то выдумали, что символа веры не знают!
— Ну, ничего такого особо вредного я в этом еще не вижу… — осторожно (так по неизбежности просовывают руку в клетку к злому попугаю) вставлял мой отец, опасавшийся раздражать людей, а особенно— дам, а особенно— родственных, а особенно— родственных с нервным тиком (всегда— вся — тряслась, как ненадежно поставленная, неосторожно задетая, перегруженная свечами и мелочами зажженная елка, ежесекундно угрожающая рухнуть, загореться и сжечь). — Все лучше, чем ходить на сходки…
— Студент! — уже кричала Какаду (прозвище из‑за крючковатости носа и желтизны птичьих глаз). — Учиться надо, а не лекции читать, отца позорить!
— Ну, полно, полно, голубушка, — ввязался вовремя подоспевший добродушнейший мой дядя Митя, заслуженный профессор, автор капитального труда о скучнейшем из царей — Василии Шуйском и директор Коммерческого училища на Остоженке, воспитанниками которого за малый рост, огромную чёрную бороду, прыть и черносотенство был прозван Черномор. — Что ты так разволновалась? Одни в юности за хорошенькими женщинами ухаживают, другие — про символизм докладывают, ха — ха — ха! Отец — почтенный, может быть, еще и из сына выйдет прок. — А ты как думаешь, Марина? Что лучше: на балах отплясывать или про символизм докладывать? Впрочем, тебе еще рано… — неизвестно к чему относя это «рано», к балам или символизму…
И не мы одни были такая семья. Так встречало молодой символизм, за редчайшими исключениями, все старое поколение Москвы.
Так я и унесла из розовых стен Коммерческого училища на Остоженке в шоколадные стены нашего дома в Трехпрудном имя Андрея Белого, где оно и осталось до поры до сроку, заглохло, притаилось, легло спать.
Разбудил его, года два спустя, поэт Эллис (Лев Львович Кобылинский, сын педагога Поливанова, переводчик Бодлера, один из самых страстных ранних символистов, разбросанный поэт, гениальный человек).
— Вчера Борис Николаевич… Я от вас к Борису Николаевичу… Как бы это понравилось Борису Николаевичу…
Естественно, что мы с Асей, сгоравшие от желания его увидеть, никогда не попросили Эллиса нас с ним познакомить и — естественно, а может быть, не естественно? — что Эллис, дороживший нашим домом, всем миром нашего дома: тополиным двором, мезонином, моими никем не слышанными стихами, полновластным царством над двумя детскими душами — никогда нам этого не предложил. Андрей Белый — табу. Видеть его нельзя, только о нем слышать. Почему? Потому что он — знаменитый поэт, а мы средних классов гимназистки.