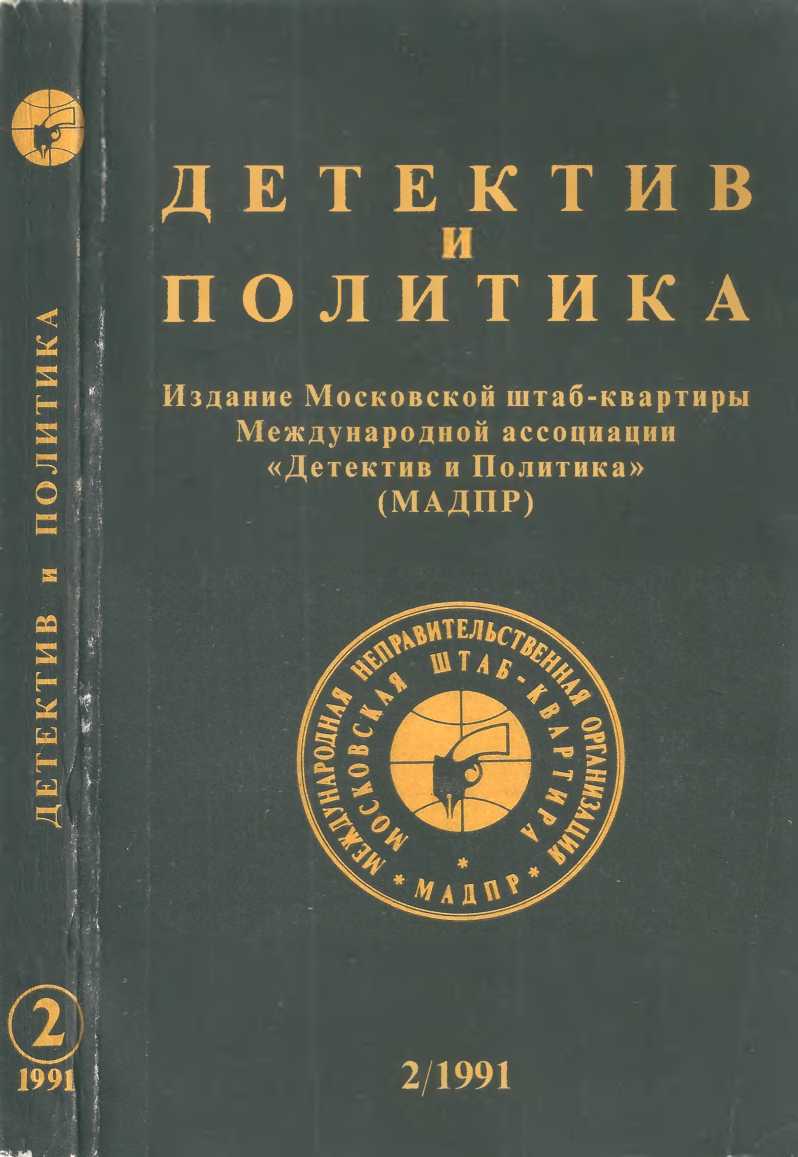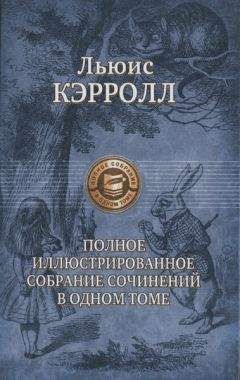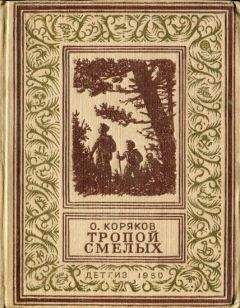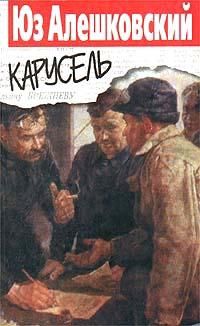перед собой, Лонгмэн ускорил шаг и свернул на 16-ю улицу. Ему пришлось сдерживать себя, чтобы не броситься бежать. На Ирвинг-плейс он свернул налево, пересек улицу и прошел мимо выветренных бесцветных стен школы имени Вашингтона Ирвинга. Группка учеников болталась у входа — девушка-китаянка с ярко накрашенными губами и в очень короткой юбчонке, еще одна девушка-негритянка и двое чернокожих юнцов в кожаных куртках.
Когда Лонгмэн проходил мимо, один из парней подошел к нему.
— Эй, приятель, почему бы тебе не поделиться парой монет с отличником вроде меня?
Лонгмэн отстранил от себя протянутую руку. Парень пробормотал что-то угрожающее, но отстал сразу. Лонг-мэн продолжил свой путь. Перед ним была теперь кованая чугунная ограда и голые деревья парка Грэмерси. Он подумал о Райдере и вспомнил выстрелы, которые слышал, выбираясь наружу. С Райдером все будет о'кей, решил он, и со странным чувством отрешенности выбросил мысли о Райдере из головы.
Он свернул на 8-ю улицу, пересек Третью авеню, затем Вторую. И вот он у своего дома. Это было обшарпанное невзрачное строение, из окон которого с одинаково скучающим видом пялились люди и собаки. Он поднялся по лестнице мимо глухих дверей. Достав ключи, он по очереди открыл три замка — начал с нижнего и закончил верхним, — вошел внутрь и запер замки в обратном порядке.
Через узенький коридорчик Лонгмэн прошел в кухню и открыл кран. Дожидаясь, пока потечет по-настоящему холодная вода, он вдруг издал сдавленный крик триумфа.
Анита Лемойн
Примерно через пять минут после того, как вагон остановился, Анита увидела, как в него взобрались двое мужчин. У одного из них на рукаве были нашивки машиниста, и он вошел в кабину, открыв дверь ключом. Второй был полицейским.
Последний поднял руку, чтобы заставить замолчать обступивших его пассажиров. При этом он все время повторял:
— Я ничего не знаю. Вы сможете выйти из вагона через несколько минут… Я ничего не знаю.
Вагон тронулся и менее чем через минуту оказался на залитой светом станции ''Боулинг-грин". Анита выглянула в окно.
На платформе выстроилась шеренга полицейских, которые, взявшись за руки, сдерживали наседающую толпу. Человек в униформе кондуктора повозился немного с чем-то вроде ключа, и двери вагона распахнулись. Полицейских смели, отбросили в стороны, и толпа ворвалась в вагон.
Клив Прескотт
Прескотт ушел со службы в половине седьмого. Уже стемнело. Воздух был прозрачен и чист, каким он бывает иногда в легкий морозец. Прежде чем выйти на улицу, он подставил голову под холодную воду, а затем тер ее полотенцем, пока не заболела кожа, но это оказалось негодным средством против овладевшей им смертельной усталости.
Район опустел. Гигантские небоскребы казались покинутыми, брошенными на произвол судьбы. Юристы и бизнесмены, журналисты и политики — все разошлись по домам. Наступал час, когда здесь можно было встретить только пьяниц, грабителей или бездомных — людей, горюющих или ведущих охоту за средствами к существованию.
Магазины на Фултон-стрит либо были уже закрыты, либо закрывались. Скоро все это обширное торжище — царство, унаследованное людьми его собственной расы или пуэрториканцами от тех, кто предпочел покинуть эти места, лишь бы не жить рядом с "черномазыми", — тоже опустеет. Двери больших универмагов были надежно заперты, сторожа и сигнализация начеку.
Закрывался и газетный киоск на углу, хозяйкой которого была женщина фантастического возраста и выносливости. Прескотт намеренно отвел взгляд от газетных заголовков.
Перед ним возник чернокожий мальчишка в ковбойской шляпе и красном пальто, который сунул ему что-т. о прямо в лицо.
— Купи газету "Черных пантер", брат.
Он отрицательно покачал головой и пошел дальше. Но мальчишка не отставал. Днем улицы города были полны такими же пареньками, продававшими листки такого рода. Прескотту очень редко приходилось видеть, чтобы их кто-то покупал. Может быть, они продают газеты друг другу? Нет, не надо над этим смеяться. Разве у тебя самого есть хоть что-то, во что ты веришь?
— Купи газету, друг. Или ты не хочешь знать правду? Ты так и останешься рабом белых хозяев этой страны.
Довольно грубо Прескотт отстранил от себя протянутую руку с зажатой в ней газетой. Мальчишка обиженно уставился на него. Прескотт почувствовал жалость.
— Хорошо, давай.
Он сунул газету в карман. Из закрывшегося уже магазинчика грампластинок продолжала нестись музыка. Должно быть, хозяин забыл выключить магнитофон. Неужели этот стук и надрывные голоса будут продолжаться здесь всю ночь и испохабят даже предрассветную тишину?
Меня тошнит, подумал Прескотт. Тошнит от полицейских и преступников, от невинных жертв и равнодушных прохожих. Тошнит от злобы и крови. Тошнит от того, что случилось сегодня, и от того, что произойдет завтра. Тошнит от белых и черных, от моей работы, моих друзей, моей семьи, от любви и от ненависти. Но больше всего меня тошнит от себя самого — чистоплюя, который воротит нос от несовершенств этого мира, зная, что никто никогда не попытается их исправить, даже если бы знал — как.
Если бы только он был на три дюйма повыше. Если бы только у него лучше шел бросок с дальней дистанции. Если бы он был белым. Или уж действительно черным.
Одного никто не мог у него отнять. У него был превосходный дриблинг. Он бесстрашно врывался с мячом в самую гущу более рослых защитников, которых заставала врасплох его стремительность. И, прежде чем чья-либо рука могла помешать ему, мяч уже описывал короткую дугу к кольцу.
Прескотт скомкал газету в подобие мяча. Сделал несколько финтов, резко повернулся и "крюком" послал "мяч" в светящуюся витрину магазина. Два очка! Наблюдавший все это бродяга захихикал, изобразил аплодисменты, а потом протянул Прескотту серую от грязи ладонь. Прескотт прошел мимо.
Завтра ему станет легче. А послезавтра? Плевать. Завтра будет легче хотя бы потому, что хуже быть уже не может. Все в порядке.
Детектив Хаскинз
Детектив второго ранга Берт Хаскинз, который, если отбросить его английское имя, был стопроцентным ирландцем, считал работу детектива наиболее подходящей для настоящего мужчины. Но считал он так примерно неделю после вступления в должность. Затем пришло постепенное разочарование во всех иллюзиях, которые он питал по поводу дедуктивного мышления, схваток с преступниками, головокружительных погонь, и он увяз в реальной работе, состоявшей в повседневном корпении над кипами документов или беготне по десяткам адресов. Профессия требовала не столько живого ума, сколько бесконечного терпения и крепких ног. Сотни допросов, которые ничего не дают, с тем чтобы из сто первого вытянуть тонкую ниточку, ведущую к разгадке. Ему приходилось взбираться по сотням лестниц, нажимать на сотни дверных звонков, встречать испуганных,