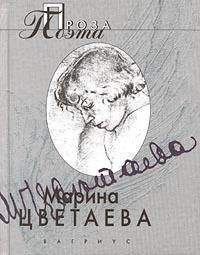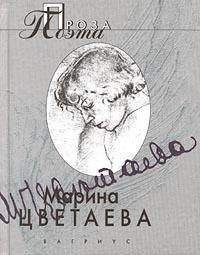(Молча: «Ася! Ведь вы— Mignon[137], не из оперы, а из Гете. Mignon не должна выходить замуж — даже за молодого Гете…»)
Вслух:
— Я не люблю Вячеслава Иванова, потому что он мне сказал, что мои стихи — выжатый лимон. Чтобы посмотреть, что я на это скажу. А я сказала: «Совершенно верно». Тогда на меня очень рассердился, сразу разъярился — Гершензон.
(Молча: «О lasst mich scheinen, bis ich werde! Zieht mir das weisse Kleid nicht aus![138] Ася! ведь это измена этому же, вашему же — Белому! Вы должны быть умнее, сильнее, потому что вы женщина… За него понять!»)
Вслух:
— Вы отлично знаете, что ваши стихи — не выжатый лимон!
Зачем же вы смеетесь над Вячеславом Ивановичем — и всеми нами?
(Молча: «Ася, у меня, конечно, квадратные пальцы, совсем не художественные, и я вся не стою вашего мизинца и ногтя Белого, но, Ася, я все‑таки пишу стихи и сама не знаю, чем еще буду — знаю, что буду! — так вот, Ася, не выходите замуж за Белого, пусть он один едет в Сицилию и в Египет, оставайтесь одна, оставайтесь с барсом, оставайтесь — барсом».)
— Марина, о чем вы думаете?
Замечаю, что я совсем забыла говорить про Гершензона. (О, потрясение человека, который вдруг осознал, что молчит и совсем не знает, сколько.)
— Бойтесь меня, я умею читать мысли.
И оборотом головы на сестер:
— Почему у Цветаевых такие красные губы? И у Марины и у Аси. Они — не вампиры? Может быть, мне вас, Марина, надо бояться? Вы не придете ко мне ночью? Вы не будете пить мою кровь?
— А ваш барс на что? Ночью он спит у вашей постели, и у него — клыки!
Другое явление — видение — Аси, знобкой и зябкой, без барса, но незримо — в нем, на границе нашей залы и гостиной в Трехпрудном, с потолками такими высокими, что всякому дыму есть куда уйти.
Между нами уже простота любви, сменившая во мне веревку — удавку — влюбленности. Я знаю, что она знает, что мы одной породы. Влюбляешься ведь только в чужое, родное — любишь. Про ее отъезд не говорим, его не называем, не называем никогда. Это еще пока — девичество, вольница, по сю сторону той реки.
Ей нужно уходить, ей не хочется уходить, стягивает, натягивает, перебрасывает с плеча на плечо невидимого барса. Не удерживаю, ибо в жизни свое место знаю, и если оно не последнее, то только потому, что вовсе не становлюсь в ряд… (А со мной, в моей простой любви (а есть — простая?) — в моем веселом девичьем дружестве, в Трехпрудном переулке, дом № 8, шоколадный, со ставнями, ты бы все‑таки была счастливее, чем с ним в Сицилии, с ним, которого ты неизбежно потеряешь…)
— Ася, вы скоро едете?
— Скоро еду, а сейчас иду.
Простившись с ней совсем же в нашем полосатом, в винно — белую полоску, матрасном парадном, естественным следствием всех последних прощаний, влезаю в своего гимназического синего барана (мне — баран, тебе — барс, все как следует, и они бар(ан) и бар(с) все‑таки родня) и иду с ней вдоль снежного переулка — ряда переулков — до какого‑то белого дома (может быть — ее, может быть, его, может быть — ничьего), который зовется «здесь». Здесь — прощаемся.
— А завтра Ася с Борисом Николаевичем уезжают в Сицилию!
Это Владимир Оттонович Нилендер, тоже мятущаяся и смещенная разом со всех земных мест душа, ame en peine — d’eternite[139], уже с порога, вознеся над головой руки, точно моля ими зальную Афродиту отвести от этой головы беду. (Теперь замечаю, что и у Нилендера и у Эллиса были беловские жесты. Подвлиянность? Сродство?)
— Вы можете передать от меня Асе стихи?
— А вы на вокзале не будете?
— Нет. В руки. В руку. После третьего звонка, конечно, чтобы…
— Понял. Понял.
— Нет. Не поняли и не после третьего, потому что после третьего все сразу лезут на подножку опять прощаться. Так вот, после последней подножки и последней руки. Ей, в машущую…
День спустя, выпрастывая шею из седого и от снега бобра. (Барс, баран, бобер… Бобром он этим потом тушил свой филологический пожар. Бобер сгорел, но зато были спасены все книги филолога!)
— Марина! Уехали! Это было растравительно. Она, бедняжка, храбрилась, не плакала, но вся сжалась, скрутилась в жгут, как собственный платочек — и ни слезы!
(Точно в Нерчинск! А ведь, кажется, — в Монреале, да еще с любимым, да еще этот любимый — Андрей Белый! Но таковы тогда были души и чувства.)
— А он?
— Он, кажется, был (с величайшим недоумением) — просто счастлив? От него шло сияние!
— От него всегда идет сияние.
Вы правы. Но вчера — особенное. Он не уезжал — отлетал! Точно не паром двинулись вагоны, а его…
Я:
— Вдохновением.
— Счастливая Ася. Бедная Ася.
И я, вторя:
Никому, с участьем или гневно,
Не позволь в былое заглянуть.
Добрый путь, погибшая царевна,
Добрый путь!
— Марина, какое безумие, какое преступление — брак! Это говорит— мне говорит! В глаза говорит! — человек, которого… который… — и весь рассказ об Асе и Белом— о нас рассказ, если бы один из нас был хоть чуточку безумнее или преступнее другого из нас. Но зато — и какое в этом несравненное, сияние! — знаю, что если я, сейчас, столько лет спустя, или еще через десять лет, или через все двадцать, войду в его филологическую берлогу, в грот Орфея, в пещеру. Сивиллы, он правой оттолкнет молодую жену, левой обвалит мне же на голову подпотолочную стопу старых книг — и кинется ко мне, раскрывши руки, которые будут — крылья.
Это нам и всем подобным нам награда за все нами отвергнутые Монреале.
От Аси, год спустя, уже не знаю откуда, прилетело письмо: разумное, точное, деловое. С адресами и с ценами. В ответ на мой такой же запрос: куда ехать в Сицилию. И мое свадебное путешествие, год спустя, было только хождение по ее — Аси, Кати, Психеи — следам. И та глухонемая сиракузская девочка в черном диком лавровом саду, в дикий полдневный, синий дочерна час, от которого у меня и сейчас в глазах сине и черно, бежавшая передо мною по краю обрыва и внезапно остановившаяся с поднятым пальчиком: «вот!» — а «вот» была статуя благороднейшего из поэтов Гр. Августа Платена — August von Platen — seine Freunde[140] — та глухонемая девочка, самовозникшая из чащи, была, конечно, душа Аси, или хоть маленький ее мой отрез! — стерегшая меня в этом черном саду.
Больше я Аси никогда не видала.
Девочка… козочка… Bichette… ах. это вы, Bichette?
1920 год. В филологической берлоге Нилендера встречаю священника с страшными глазами: синими поднебесными безднами. Я эти глаза — знаю. Только это глаза со стены, и не подобает им глядеть на меня через советский примус.
— Вы меня не узнаете? Неузнаваем? Соловьев. Сережа Соловьев. (Да, да, нужно было именно сказать: Сережа, чтобы не подумала— среди бела дня, в гостях Владимир! Но куда же девался чудный, розового мрамора, круг лица? Священник — куда стихи?)
«Как Таня?» — «Таня в деревне. У Тани три девочки». — «Опять — три?» — «Опять — три». — «Тургеневской породы?» — «Тургеневской. И одна очень похожа на Асю». — «Спасибо».
Для пояснения нужно прибавить, что Таня Тургенева, прельщенная примером моей Аси, вышла замуж из того же шестого класса гимназии — за Сережу Соловьева. Так что разговор шел о соловьевско — тургеневских девочках.
По выходе этого прекрасно и страшноглазого священника, Нилендер — мне:
— Мечтает о воссоединении церквей. Сначала был православным, потом перешел в католичество, а теперь — униат. Сначала был поэт!
Знают, стройно и напевно
В полночь вставшие снега,
Что свершает путь царевна,
Взяв оленя за рога…
— О, это давно… Это был — другой человек… Это было в Асины времена… — с той особенной отраженной нежностью мужчины, самого не бывшего влюбленным — не решавшегося! — но возле влюбленного, влюбленных стоящего и их нежностью кормившегося…
У — ни — ат… Какая сосущая гимназическая жуть: рассвет… водовоз… вставать… жить… отвечать про польскую Унию..
Но не сбылись вторично сестры Тургеневы. В 1922 году, на Воздвиженке, меня окликнула молодая женщина с той обычной советской присыпкой пепла на лице, серьезной заботы и золы, уравнивающей и пол и возраст, молодость заравнивающей как лопатой.
— Таня. Таня Тургенева. Но вы тоже очень изменились. А у меня (все еще те глаза внезапно и до краев наливаются слезами) — умерла дочка. Вторая. Вот карточка, где они еще три.
На меня с дешевой, уже посеревшей, как Танино и мое лицо, открытки глядят три маленьких Тургеневы, три Леди Джен. Таня, тыча все еще точеным пальчиком с черным ногтем в одну из головок: